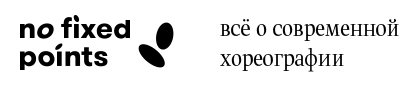История
Почетная солистка всея Руси.
Часть третья.
Часть третья.
Третья часть материала Марины Зимогляд о Матильде Кшесинской посвящена тому, как балерина распоряжалась своей властью, как очаровывала публику со сцены и как относилась к деньгам.
После окончания сезона 1898−99 года покинул свою должность директор императорских театров Всеволожский. Его место занял князь Волконский, который смог проработать только два сезона с 1899 по 1901 год.
Волконскому тоже пришлось получать приказы от Министра Двора, когда он вздумал передать любимый балет Кшесинской «Тщетная предосторожность» итальянской гастролерше Гримальди: «…Государь вмешивался в мелочные подробности балетного репертуара и даже распределения ролей. Это было всегда ради удовлетворения какого-нибудь желания Кшесинской; это всегда сопровождалось какою-нибудь несправедливостью по отношению к какой-нибудь другой танцовщице. Сам Государь не знал, что творит несправедливость. Он исполнял чужую просьбу, и просьба ему докладывалась в такой форме, что несправедливость оставалась сокрыта».
Г. А. Римский-Корсаков писал о ней: «Она была в самом полном и абсолютном значении слова «премьерша». В этом отношении очень любопытно было наблюдать ее поведение на сцене. Первое ее появление в спектакле, уход, выход после окончания номера на аплодисменты носили такой неприкрытый характер фальши, деланности,
Волконскому тоже пришлось получать приказы от Министра Двора, когда он вздумал передать любимый балет Кшесинской «Тщетная предосторожность» итальянской гастролерше Гримальди: «…Государь вмешивался в мелочные подробности балетного репертуара и даже распределения ролей. Это было всегда ради удовлетворения какого-нибудь желания Кшесинской; это всегда сопровождалось какою-нибудь несправедливостью по отношению к какой-нибудь другой танцовщице. Сам Государь не знал, что творит несправедливость. Он исполнял чужую просьбу, и просьба ему докладывалась в такой форме, что несправедливость оставалась сокрыта».
Г. А. Римский-Корсаков писал о ней: «Она была в самом полном и абсолютном значении слова «премьерша». В этом отношении очень любопытно было наблюдать ее поведение на сцене. Первое ее появление в спектакле, уход, выход после окончания номера на аплодисменты носили такой неприкрытый характер фальши, деланности,
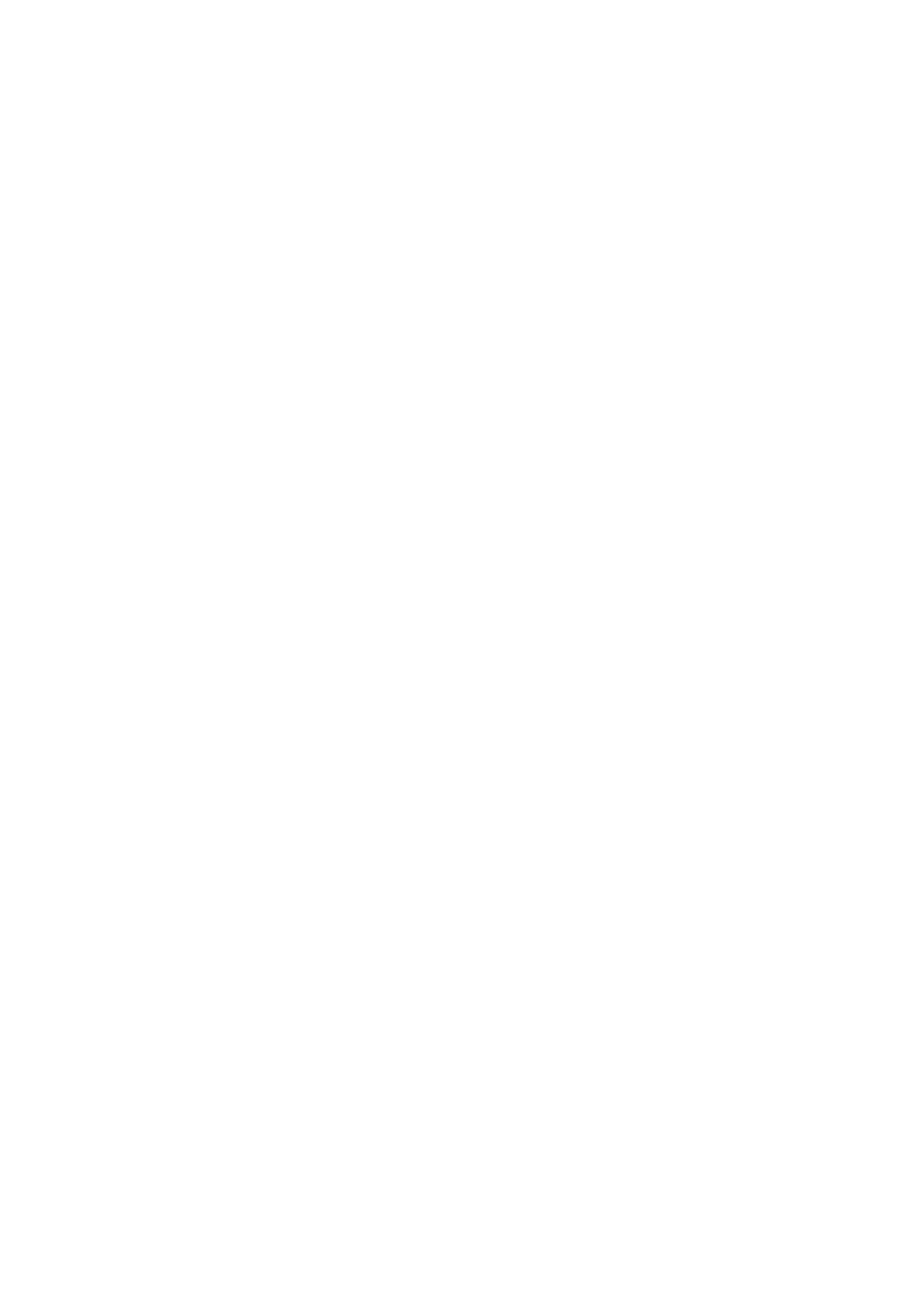
Матильда Кшесинкая в балете «Эсмеральда»
жеманства, торжествующей беспредельной наглости, что делалось стыдно за артистку, за театр и за себя, что присутствуешь при таком откровенном попирании женской скромности и артистического достоинства.
Вот как это происходило. Кшесинская выбегала на сцену уже с готовой улыбкой, означавшей: «вот и я — ваша общая любимица, единственная и лучшая из всех». Останавливалась, не спеша подходила ближе к рампе. Опускала беспомощно руки, склонив головку на бок и глядя на публику с жеманным видом избалованного ребенка, как будто хотела сказать: «Ах! Господи! за что же вы меня все так сильно любите?..» Потом она обводила своими наглыми глазам зрительный зал, притворяясь, что так сильно хлопают со всех сторон, что она не знает, кому прежде поклониться. Тем не менее, конечно, первый поклон она неизменно делала в сторону царской ложи, пригибаясь чуть не до земли и виляя всем телом".
В принципе, и сама Матильда не отрицает того, что любила играть для публики: «Когда я выступала на сцене, я любила знать, что в зале среди публики находится человек, которому я нравлюсь. Это меня вдохновляло. Выходя на сцену надо было уметь сделать вызов публике, дать ей понять, что я ради нее на сцене. Надо было жестом призвать ее к себе, приковать ее внимание и увлечь за собою».
Вот как это происходило. Кшесинская выбегала на сцену уже с готовой улыбкой, означавшей: «вот и я — ваша общая любимица, единственная и лучшая из всех». Останавливалась, не спеша подходила ближе к рампе. Опускала беспомощно руки, склонив головку на бок и глядя на публику с жеманным видом избалованного ребенка, как будто хотела сказать: «Ах! Господи! за что же вы меня все так сильно любите?..» Потом она обводила своими наглыми глазам зрительный зал, притворяясь, что так сильно хлопают со всех сторон, что она не знает, кому прежде поклониться. Тем не менее, конечно, первый поклон она неизменно делала в сторону царской ложи, пригибаясь чуть не до земли и виляя всем телом".
В принципе, и сама Матильда не отрицает того, что любила играть для публики: «Когда я выступала на сцене, я любила знать, что в зале среди публики находится человек, которому я нравлюсь. Это меня вдохновляло. Выходя на сцену надо было уметь сделать вызов публике, дать ей понять, что я ради нее на сцене. Надо было жестом призвать ее к себе, приковать ее внимание и увлечь за собою».
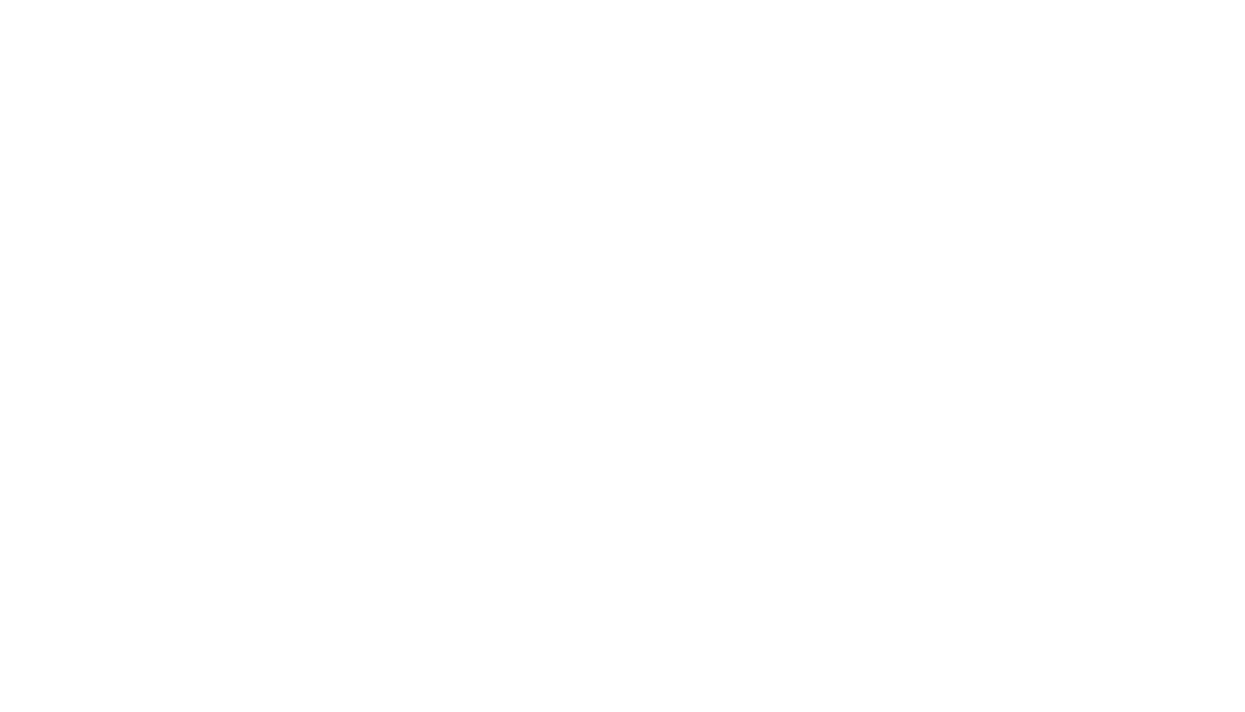
Матильда Кшесинская в балете «Эсмеральда»
В 1899 году Кшесинская танцевала Эсмеральду, а в 1900 году решила просить о бенефисе на десятилетие службы, что требовало особого разрешения. Она обращается напрямую к министру двора барону Фредериксу. С упоительной непосредственностью Кшесинская описывает свой визит к министру в своих воспоминаниях, раскрывая перед читателем секреты своей дипломатии:
«Я выбрала платье шерстяное, светло серого цвета, которое облегало мою фигуру…
Довольная собою я поехала к Министру. Он меня очень мило встретил и наговорил комплиментов по поводу моего туалета, который ему очень понравился. И тогда я уже смелее обратилась к нему со своей просьбою. Он сразу любезно согласился доложить о ней Государю, так как вопрос о назначении бенефиса вне общих правил зависел исключительно от Государя. Видя, что министр не торопится отпускать меня я сказала ему, что только благодаря ему, я делаю хорошо 32 фуэте. Он посмотрел
«Я выбрала платье шерстяное, светло серого цвета, которое облегало мою фигуру…
Довольная собою я поехала к Министру. Он меня очень мило встретил и наговорил комплиментов по поводу моего туалета, который ему очень понравился. И тогда я уже смелее обратилась к нему со своей просьбою. Он сразу любезно согласился доложить о ней Государю, так как вопрос о назначении бенефиса вне общих правил зависел исключительно от Государя. Видя, что министр не торопится отпускать меня я сказала ему, что только благодаря ему, я делаю хорошо 32 фуэте. Он посмотрел
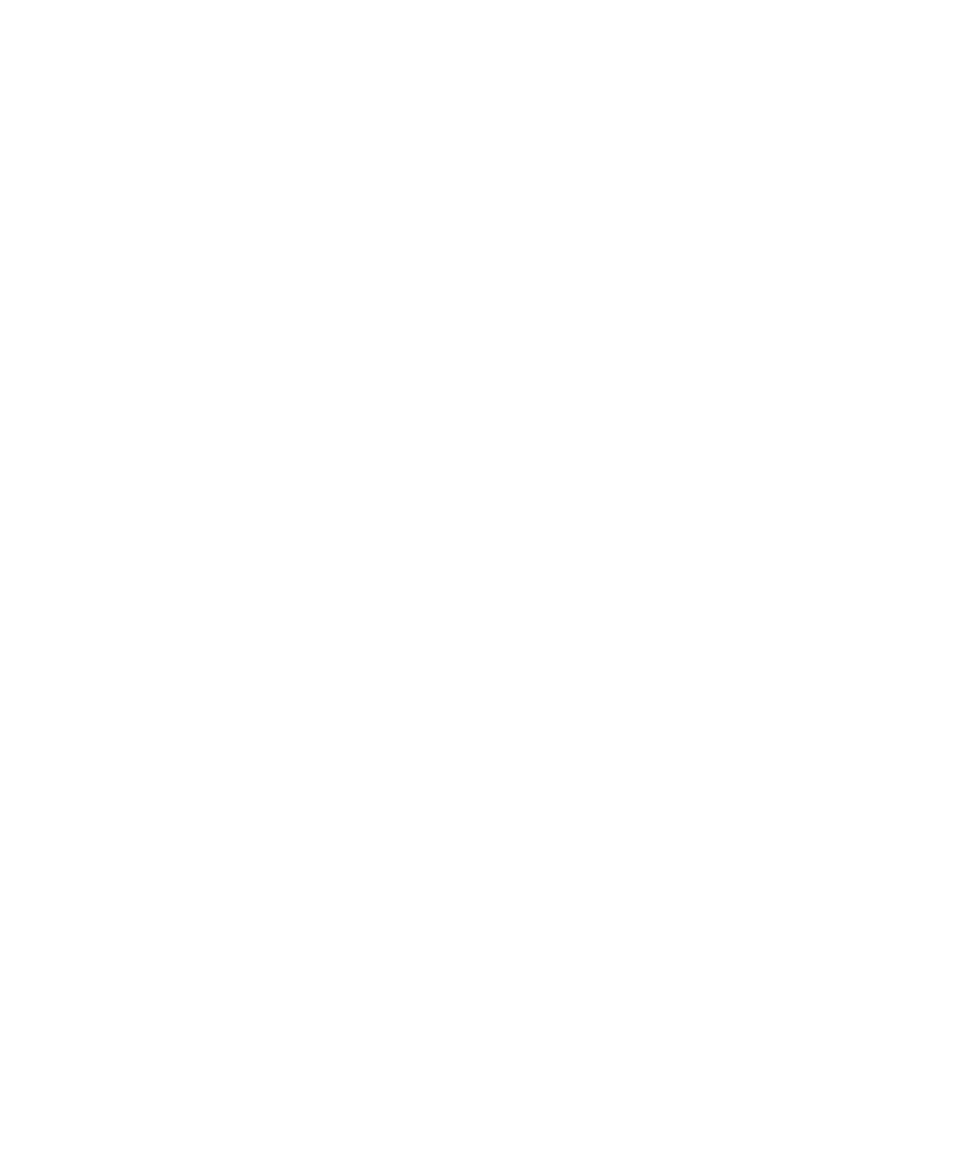
Матильда Кшесинкая в балете "Эсмеральда"
на меня удивленно и вопросительно, недоумевая, чем он может мне в этом помочь. Я ему объяснила, что для того чтобы делать фуэте не сходя с места, необходимо иметь перед собой ясно видимою точку при каждом повороте, а так как он сидит в самом центре партера, в первом ряду, то даже в полутемном зале на его груди ярко выделяются своим блеском ордена."
Что и говорить, Кшесинская получила бенефис вне всяких правил, который прошел с большим успехом 13 февраля 1900 года.
Что и говорить, Кшесинская получила бенефис вне всяких правил, который прошел с большим успехом 13 февраля 1900 года.
«Я получила массу подарков и 83 цветочных подношения»
После бенефиса Кшесинская дала в своем доме обед, на который пригласила великих Князей, в том числе впервые великого Князя Андрея Владимировича. Князь был четвертым сыном великого князя Владимира Александровича и внуком Александра II. Завязался роман и уже осенью они проводят в Биарице несколько недель, которые омрачены, однако, вынужденным соблюдением внешних приличий. Вот что пишет Кшесинская о развитии их отношений:
«Андрея приглашали его друзья и знакомые, которым ему трудно было отказать, при всех нам вместе показываться было невозможно. Андрей был еще очень молод и не мог действовать так, как он хотел бы. Да и я должна была соблюдать некоторую осторожность»
18 июня 1902 года Матильда Кшесинская родила сына.
«Когда я несколько окрепла после родов и силы мои немного восстановились, у меня был тяжелый разговор с Великим князем Сергеем Михайловичем. Он отлично знал, что не он отец моего ребенка, но он настолько меня любил и так был привязан ко мне, что простил меня и решился, несмотря ни на что остаться при мне и ограждать меня как добрый друг. В своей домашней жизни я была счастлива: у меня был сын, которого я обожала, я любила Андрея, и он меня любил. Сергей вел себя бесконечно трогательно, к ребенку относился, как к своему и продолжал меня баловать. Он всегда был готов меня защищать, так как у него было больше возможностей, нежели у кого бы то ни было, и через него я всегда могла обратиться к Ники».
«Андрея приглашали его друзья и знакомые, которым ему трудно было отказать, при всех нам вместе показываться было невозможно. Андрей был еще очень молод и не мог действовать так, как он хотел бы. Да и я должна была соблюдать некоторую осторожность»
18 июня 1902 года Матильда Кшесинская родила сына.
«Когда я несколько окрепла после родов и силы мои немного восстановились, у меня был тяжелый разговор с Великим князем Сергеем Михайловичем. Он отлично знал, что не он отец моего ребенка, но он настолько меня любил и так был привязан ко мне, что простил меня и решился, несмотря ни на что остаться при мне и ограждать меня как добрый друг. В своей домашней жизни я была счастлива: у меня был сын, которого я обожала, я любила Андрея, и он меня любил. Сергей вел себя бесконечно трогательно, к ребенку относился, как к своему и продолжал меня баловать. Он всегда был готов меня защищать, так как у него было больше возможностей, нежели у кого бы то ни было, и через него я всегда могла обратиться к Ники».

Великий князь Андрей Владимирович
Кшесинская была чрезвычайно богата, обожала драгоценности, могда щедро угостить, и в тоже время, в частной жизни была скупа и знала счет каждому гривеннику. Характерный анекдот приводит в своих воспоминаниях Римский -Корсаков, который он записал со слов балерины Бакеркиной:
«Кшесинская очень аккуратно и тщательно вела свои дела и, несмотря на свои миллионные биржевые операции, будучи большой скопидомкой, ежевечерне перед сном заносила в книгу все свои дневные расходы. Она часами могла вспоминать каждый свой истраченный гривенник и не ложилась спать, пока весь баланс на сходился у ней точно.
Эти счеты очень раздражали великого князя Сергея Михайловича, который торопился скорее лечь, чтобы предаться «Кипридиным приятностям». Иногда поэтому Сергей Михайлович спрашивал у Кшесинской, на какую сумму у ней не сходится счет повара со сдачей, и незаметно подкладывал ей искомые рубль с копейками. Но бывало и так, что она уличала своего высокого любовника в потакании хищениям прислуги, в расходовании «трудом» нажитых ею капиталов, и тогда поиски грошовой суммы начинались с еще большим рвением.
«Кшесинская очень аккуратно и тщательно вела свои дела и, несмотря на свои миллионные биржевые операции, будучи большой скопидомкой, ежевечерне перед сном заносила в книгу все свои дневные расходы. Она часами могла вспоминать каждый свой истраченный гривенник и не ложилась спать, пока весь баланс на сходился у ней точно.
Эти счеты очень раздражали великого князя Сергея Михайловича, который торопился скорее лечь, чтобы предаться «Кипридиным приятностям». Иногда поэтому Сергей Михайлович спрашивал у Кшесинской, на какую сумму у ней не сходится счет повара со сдачей, и незаметно подкладывал ей искомые рубль с копейками. Но бывало и так, что она уличала своего высокого любовника в потакании хищениям прислуги, в расходовании «трудом» нажитых ею капиталов, и тогда поиски грошовой суммы начинались с еще большим рвением.
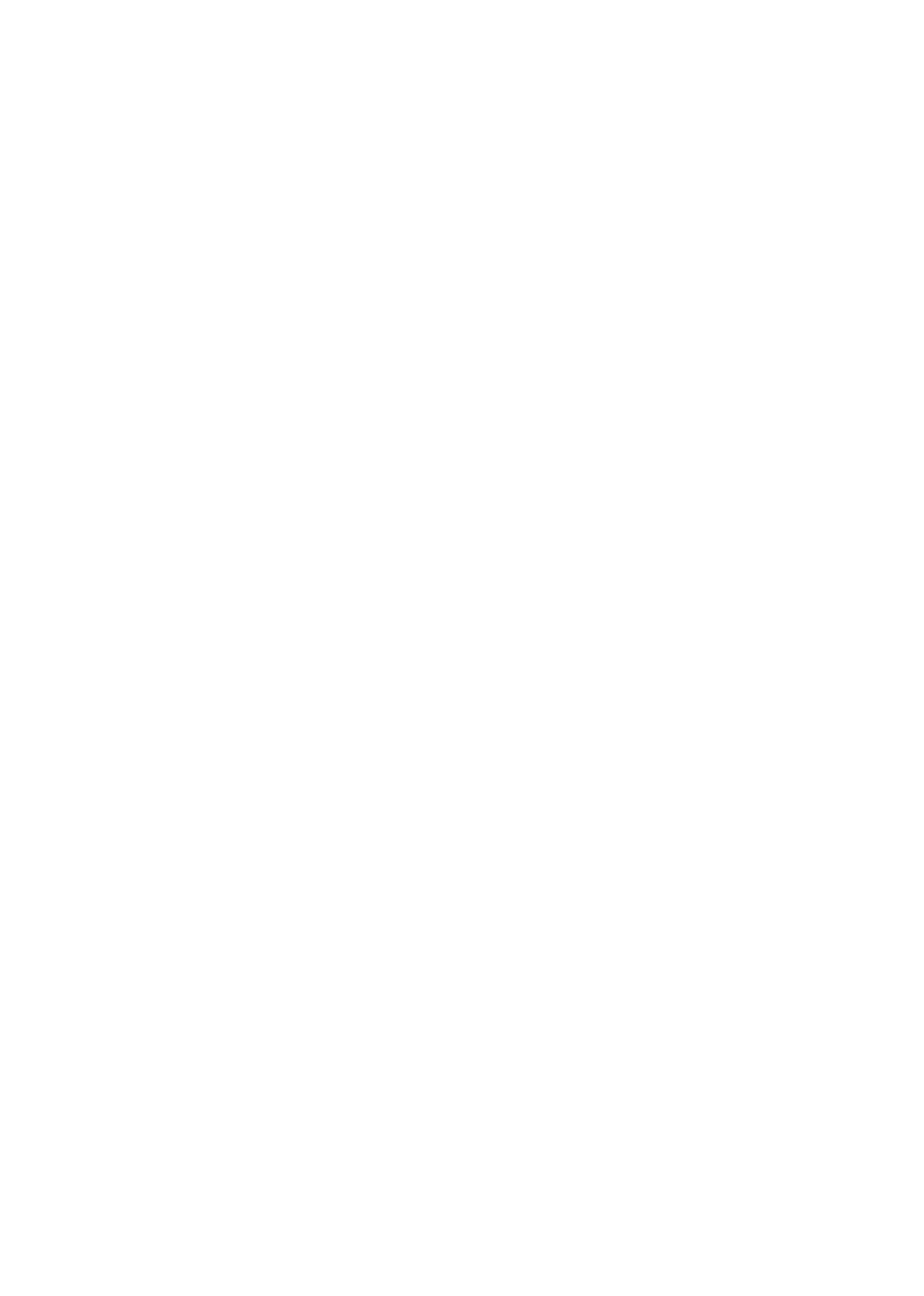
Матильда Кшесинская
Но вот, ночью, энергичная ручка балерины будила Сергея Михайловича. «Что случилось?» — вскакивал он на кровати. «Нашла!» — отвечала сияющая от счастья Кшесинская. «Нашла!» — «Что нашла?» — «20 копеек. Я совсем забыла, что дала их Петру лакею, чтобы он завтра утром съездил за моим платьем к портнихе…». Тогда начальник всей русской артиллерии разражался громовыми залпами ругательств. На это Кшесинская спокойно отвечала: «Вам хорошо ругаться, Ваше Императорское Высочество, располагая неограниченными средствами русской царской фамилии, а я, бедная женщина, должна думать о своем пропитании»
~
Весь материал про Матильду
Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку
Только лучшие материалы месяца