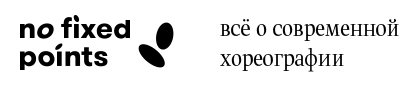Жизнь в твоей голове
В Санкт-Петербурге закончился десятидневный марафон имени современного танца — XIX фестиваль OPEN LOOK.
Победитель практикума критики современного танца LOOK OUT, проведенного в рамках фестиваля, Тата Боева считает, что в этот раз показанные спектакли объединились темой многообразия воображаемых миров и рассказывает об этом на примере четырёх участников блока RUSSIAN LOOK.
Победитель практикума критики современного танца LOOK OUT, проведенного в рамках фестиваля, Тата Боева считает, что в этот раз показанные спектакли объединились темой многообразия воображаемых миров и рассказывает об этом на примере четырёх участников блока RUSSIAN LOOK.
В этом году почти все участники Open Look так или иначе отказались от объективной реальности. Точнее — манифестировали её вариативность и изменяемость усилиями каждого воспринимающего. В каком стиле и технике не работали бы коллективы, какую тему не взяли, все дороги привели к власти воображения над людьми. Зарубежная программа больше сосредоточилась на попытках собрать заново мир, начав с себя — здесь и переживающий историю танца через этапы своей биографии Фуфуа Димобилите, и опробующая возможности тела, будто получившая его впервые Шарон Вазанна, и Каори Ито, ищущая ответы на свои вопросы в семейных отношениях, и исповеди застрявших между жизнью и смертью грешников Вима Вандекейбуса.
Российские же танцовщики оказались больше влечены исследованием самих воображаемых миров и их законов. В итоге зрители Russian Look пропутешествовали от размышлений об аутентичных древних ритуалах до вечно воспроизводящегося города. На хореографической практике это означало разброс от реалистического, литературоцентричного танца до попыток соединить компьютерную реальность с классическим лексиконом. Но обо всём по порядку.
Российские же танцовщики оказались больше влечены исследованием самих воображаемых миров и их законов. В итоге зрители Russian Look пропутешествовали от размышлений об аутентичных древних ритуалах до вечно воспроизводящегося города. На хореографической практике это означало разброс от реалистического, литературоцентричного танца до попыток соединить компьютерную реальность с классическим лексиконом. Но обо всём по порядку.
Прошлое в твоей голове
Можно ли вернуться к корням, попытаться примерить на себя и обжить то, что когда-то могло существовать? Да, если использовать для этого не декоративность артефактов (всё равно, надев музейное убранство, останешься ряженным), а телесные практики.
В «Девъ» Екатерины Кисловой, поставленном в московском «Центре драматургии и режиссуры», на сцене девять исполнительниц — и представленные ими три ипостаси, три возраста, проживаемые каждой. Девушки стройны, гибки, не имеют права говорить. Они пока лишь входят в мир и чаще прогибаются под его тяжестью, падают тяжёлыми плетевидными руками вниз, клонят головы к полу. Жёны монументальны, привыкли уже к тяготам, и работают, и празднуют с одинаковой лёгкой грустью. Им принадлежит право описывать окружающий мир — пение.
Кислова не занимается реконструкцией: нафантазированная ей женская половина скорее отражает особенности вечнобабьего средних широт, чем восходит к всамделешней деревне. Её стонущие, извивающиеся героини последовательно воспроизводят основные этапы биографии. У них нет любви — но есть сношения, нет семей — но есть физические тяготы беременности, связи превращаются в оковы. Несчастья стабильны, стыд въелся в кожу — и из этого берёт начало заново создаваемый язык тела. Он аскетичен, немного приглушён (в работе не до плясок, не до хороводов и лебёдушек), но настойчив и точен. Втянутая к позвоночнику грудь и брошенные вниз кисти напоминают силуэт плакучих ив, мягкие проседания бёдер с разведёнными коленями отмечают и метафорическую ношу, вбивающую в почву и в то же время и укоренённость, твёрдость, устойчивость, без которой не протянуть. А в радости или гордости героини «Девъ» напоминают птиц — вытягиваясь вертикально, клинообразно поднимают руки.
В этих позах, в том, какие истории выбираются для коллажа, в невзвинченном тоне песен, полных смиренного достоинства и заключается заново собранная мифологема. Кислова, взяв за основу деревенский уклад, переосмысляет его и ищет способы говорить не о подвигах или вечной благости. В каком-то смысле этот опирающийся сам на себя девичий край (ни одного мужчины на сцене, ни намёка на их присутствие где-либо в обозримом пространстве) являет опрокинутый в прошлое тихий феминистский разговор. И в этом смысле «Девъ» ни капли не традиционен, несмотря на внешний антураж. Он говорит с древностью, её (воображаемым) укладом, но пересоздаёт картину, пользуясь современными понятиями и этикой. Все эти мощные, поющие не на зал, но на целое бескрайнее поле женщины и молчаливо оттанцовывающие ежедневные права девки — настоящие амазонки. Хотя это слово применят к активисткам намного позже.
В «Девъ» Екатерины Кисловой, поставленном в московском «Центре драматургии и режиссуры», на сцене девять исполнительниц — и представленные ими три ипостаси, три возраста, проживаемые каждой. Девушки стройны, гибки, не имеют права говорить. Они пока лишь входят в мир и чаще прогибаются под его тяжестью, падают тяжёлыми плетевидными руками вниз, клонят головы к полу. Жёны монументальны, привыкли уже к тяготам, и работают, и празднуют с одинаковой лёгкой грустью. Им принадлежит право описывать окружающий мир — пение.
Кислова не занимается реконструкцией: нафантазированная ей женская половина скорее отражает особенности вечнобабьего средних широт, чем восходит к всамделешней деревне. Её стонущие, извивающиеся героини последовательно воспроизводят основные этапы биографии. У них нет любви — но есть сношения, нет семей — но есть физические тяготы беременности, связи превращаются в оковы. Несчастья стабильны, стыд въелся в кожу — и из этого берёт начало заново создаваемый язык тела. Он аскетичен, немного приглушён (в работе не до плясок, не до хороводов и лебёдушек), но настойчив и точен. Втянутая к позвоночнику грудь и брошенные вниз кисти напоминают силуэт плакучих ив, мягкие проседания бёдер с разведёнными коленями отмечают и метафорическую ношу, вбивающую в почву и в то же время и укоренённость, твёрдость, устойчивость, без которой не протянуть. А в радости или гордости героини «Девъ» напоминают птиц — вытягиваясь вертикально, клинообразно поднимают руки.
В этих позах, в том, какие истории выбираются для коллажа, в невзвинченном тоне песен, полных смиренного достоинства и заключается заново собранная мифологема. Кислова, взяв за основу деревенский уклад, переосмысляет его и ищет способы говорить не о подвигах или вечной благости. В каком-то смысле этот опирающийся сам на себя девичий край (ни одного мужчины на сцене, ни намёка на их присутствие где-либо в обозримом пространстве) являет опрокинутый в прошлое тихий феминистский разговор. И в этом смысле «Девъ» ни капли не традиционен, несмотря на внешний антураж. Он говорит с древностью, её (воображаемым) укладом, но пересоздаёт картину, пользуясь современными понятиями и этикой. Все эти мощные, поющие не на зал, но на целое бескрайнее поле женщины и молчаливо оттанцовывающие ежедневные права девки — настоящие амазонки. Хотя это слово применят к активисткам намного позже.
Девъ
Фото — Стас Левшин
Отношения в твоей голове
На первый взгляд вставшие в пару миниатюры «Год без любви» челябинского дуэта Рафаэля Тимербакова и Дмитрия Чегодаря и «MEMORIAE» москвичей Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского должны были бы дополнить друг друга, создать метаисторию о любви. Тем более, что из всей российской программы лишь эта двойчатка обратилась к разговору об отношениях и интимных чувствах. Однако же мужская история оказалась на удивление близка к девичьим грёзам и романам.
«Год без любви», ведомый песней группы драматурга и актёра Евгения Гришковца (какое-то время сверхвостребованное течение новая сентиментальность — это он, да) «Бигуди» — о чудо — плюшев, романтично-слезлив и насквозь литературен. Движения Тимербакова и Чеботаря прямо иллюстрируют звучащие из динамиков стихи. Дом появляется сложенными треугольничком над головой ладонями, физические нагрузки — имитацией бега и боксирования. Герой «Года», единственный на двух исполнителей и одного автора текста, вспоминает прошедшие события, опрокидывается в них вновь и вновь — возможно, именно с этой особенностью построения связана крайняя зависимость пластического решения от литературной основы, его иллюстративность.
«Год без любви», ведомый песней группы драматурга и актёра Евгения Гришковца (какое-то время сверхвостребованное течение новая сентиментальность — это он, да) «Бигуди» — о чудо — плюшев, романтично-слезлив и насквозь литературен. Движения Тимербакова и Чеботаря прямо иллюстрируют звучащие из динамиков стихи. Дом появляется сложенными треугольничком над головой ладонями, физические нагрузки — имитацией бега и боксирования. Герой «Года», единственный на двух исполнителей и одного автора текста, вспоминает прошедшие события, опрокидывается в них вновь и вновь — возможно, именно с этой особенностью построения связана крайняя зависимость пластического решения от литературной основы, его иллюстративность.
Если «Год» — это линейная реконструкция жизни, напоминающая просмотр любительских видео, то «Memoriae» — воспоминания распадающиеся, всплывающие обрывками. В эту миниатюру утрамбован большой временной пласт. Перед нами история одной пары, разворачивающаяся от полудружеского озорного начала через более камерное общение к финальной — катастрофе? Гайдукова и Матулевский поначалу также литературны, их забавные, немного рок-н-ролльные танцы-завязка где-то в небольших барах слово за словом повторяют звучащие песни и истории из них.
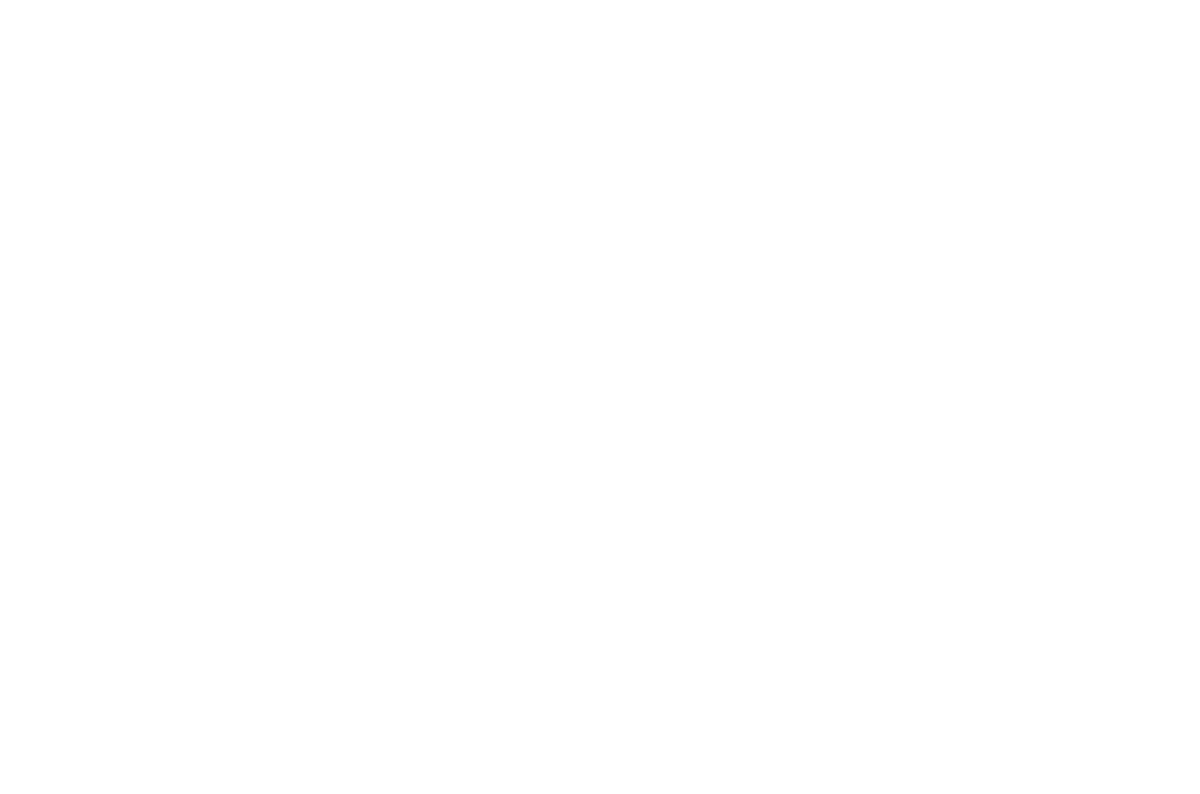
Объятия, немного утрированное танго, в котором героиня Софьи теряет — нет, не туфельку, грубоватый синий ботинок. Все движения узнаваемы и больше относятся по характеру к пантомиме, чем к танцу. Однако их говорливость разбавляется юмором. В лирический момент внезапно не получается легко вскочить на руки партнёру и любовная сцена ненадолго превращается в чемпионат по прыжкам в высоту, где главный приз — уже не радость от любимого, но финальная утончённая поза.
«Memoriae» мог бы остаться милой зарисовкой, радующей неофитов простотой и внятностью мысли, если бы не запрятанная в нём драма. Название переводится как «память» и это главная драматическая коллизия этюда. Рассматривая высвеченные статичные позы, начинающие спектакль, наблюдая за их постепенным соединением и выстраиванием истории, мы не сразу понимаем, зачем нужен эффект вспышек. Лишь к концу можно узнать, что у одного из героев распадаются воспоминания. Это не имеет отношения к пластической стороне, но добавляет происходящему драматизма.
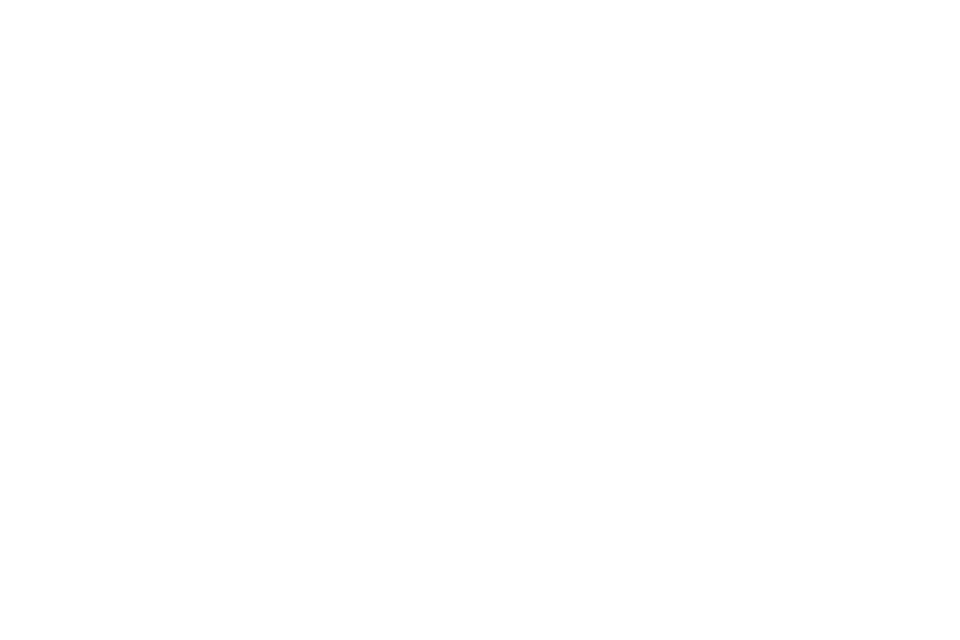
Обычная история становится отчаянной попыткой сохранить последние фрагменты когда-то бывшего, зафиксировать ускользающее состояние. И к концу героиня Гайдуковой останется одна — и танцевать остатки парных вариаций, и вспоминать.
Модель города в твоей голове
В продукте (с жанром определимся позже) Татьяны Чижиковой «Vol. IV. Ле Корбюзье. Градостроительство» нет ни исполнителей, ни зрителей, ни толком организованного движения. «Градостроительство» это зал-блэкбокс с восемьюдесятью лёгкими стульями и звучащий из динамиков голос. Голос читает трактат Ле Корбюзье. Стулья заполняются людьми. Могут передвигаться по мере необходимости. Всё.
Действие развивается по законам обустройства любых поселений. Стулолюди, которым дали волю, постепенно собираются в просвет улочки, потом небольшой скученный квартал, центр, широкую улицу, площадь. Нужно всего лишь пододвинуться к соседу или развернуться, чтобы лучше видеть.
Действие развивается по законам обустройства любых поселений. Стулолюди, которым дали волю, постепенно собираются в просвет улочки, потом небольшой скученный квартал, центр, широкую улицу, площадь. Нужно всего лишь пододвинуться к соседу или развернуться, чтобы лучше видеть.
Образовавшиеся улицы быстро наполняются горожанами — теми, кому скучно просто переходить с места на место с мебелью. Зал всё больше напоминает настоящий город и начинает жить какой-то своей жизнью, внешне совершенно неконтролируемой. Кто-то поднял стул, окружающим понравилось, поднимаем стулья. Кто-то начал ходить по кругу вместе с приятелем боком, к ним присоединились, скоро шаркает плоская цепочка уже человек из десяти. Кто-то выкрикнул реплику, остальные аплодируют. Люди с невероятной скоростью находят себе стихийных единомышленников, устанавливают короткие связи.

Фото - Настя Галеева
Самостоятельность и волеизъявление — вроде бы главные признаки «Градостроительства». Однако при всей внешней нерегулируемости, действие всё же имеет свою структуру и управляющих. Это они «вбрасывают» импульс сделать что-то внезапное или весёлое, начать прыгать, складывать мини-баррикаду из стульев, хлопать. Эти невидимые силы мягко направляют поведение большинства. И самое удивительное в этом то, насколько легко даже самое бессмысленное и дурацкое предложение подхватывается. Что будет, если разрешить построить что угодно? Город? Нет. Парк развлечений.
Фильм в твоей голове
«proКИНО» Ольги Пона и Челябинского театра современного танца, отсылающий к прошедшему тематическому году, начинается с сакраментально-финальной фразы «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» — «А что это вы тут делаете?». «Кина не будет» сия приятная участь миновала, хотя оно тоже бы хорошо смотрелось.
Ибо (обещанного) советского кина не будет точно. Пона, если и смотрит на культурный пласт под названием советский кинематограф, то очень издалека, из века цифры и стримовых раздач. Вместо немного картонных, но ощутимых декораций — холодно-нейтральный хромакей, вместо историй — пиксели и длинные ряды единиц и нолей.
Ибо (обещанного) советского кина не будет точно. Пона, если и смотрит на культурный пласт под названием советский кинематограф, то очень издалека, из века цифры и стримовых раздач. Вместо немного картонных, но ощутимых декораций — холодно-нейтральный хромакей, вместо историй — пиксели и длинные ряды единиц и нолей.
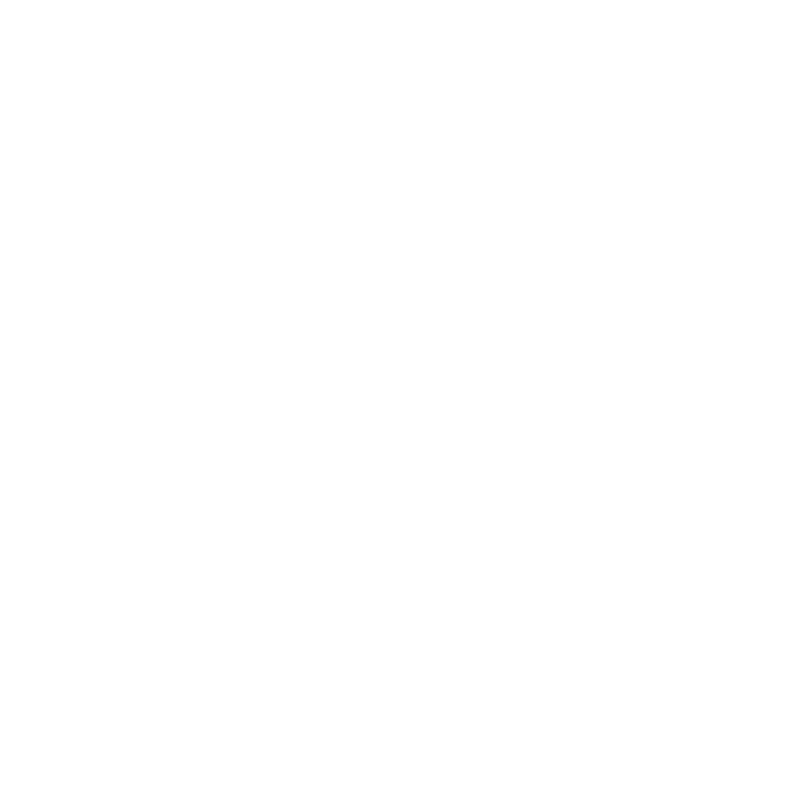
На сцене доминирует пустой экран, поверхность которого при компьютерной обработке будет заменена на любые пейзажи. Танцовщики, рассыпающиеся по его поверхности, аккуратны и безэмоциональны, их техничность отдаёт роботизацией. Они последовательно, как по заданным точкам в сетке, исполняют задание. Встать, спина параллельно полу, ладонь на пол, вторую руку вверх или назад, ногу отставить горизонтально. В этом движении остались суставы и мускулы, способные принять любое положение. Мы как будто смотрим на скелеты, модели того, что потом будет досоздано и показано целиком.
Пона может показаться жестокой в своём стремлении к стерильности и намеренной абстрактности. Однако при более вдумчивом рассмотрении оказывается, что это не о смерти эмоций (и кинолент как их источника), но о том, что все фильмы мира рождаются из сознания смотрящих. Для возникновения картинки не нужно зала или экрана, достаточно одной знакомой детали. Лирическая мелодия превращает парный этюд в дуэт влюблённых, а серия шпагатов под басовую мощь Екатерины Савиновой-Фроси Бурлаковой становится показательным выступлением поступающей.
Конечно, всё давно уже биты и пиксели. Но пока мы хотим видеть вместо них истории, они будут возникать. Ведь для просмотра нужна лишь фантазия.
Конечно, всё давно уже биты и пиксели. Но пока мы хотим видеть вместо них истории, они будут возникать. Ведь для просмотра нужна лишь фантазия.
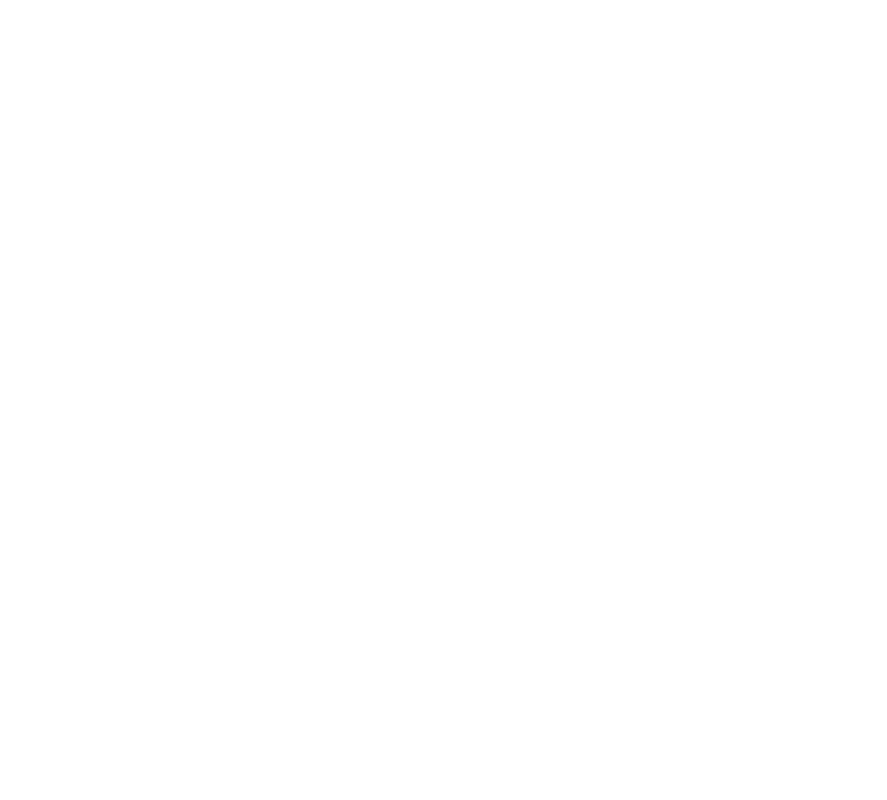
Фото — Дарья Попова