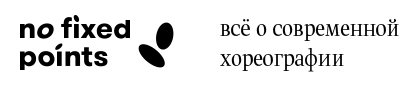Рудольф Нуреев
о Джордже Баланчине
о Джордже Баланчине
ПЕРЕВОД
Перевод Виты Хлоповой из сборника статей I remember Balanchine
В 1991 году в США вышел громадный сборник статей (под редакцией Френсиса Мейсона), посвященных Джорджу Баланчину — I remember Balanchine. Recollections of the Ballet Master by Those Who Knew Him. О нем писали все, с кем он хоть где-то пересекался: от муз и композиторов, до директоров театра или критиков.
Одну статью из этого сборника — авторства Рудольфа Нуреева — мы перевели на русский язык.
Видео и фотоматериалы, использованные для оформления данной статьи, не были опубликованы в оригинальной книге.
Одну статью из этого сборника — авторства Рудольфа Нуреева — мы перевели на русский язык.
Видео и фотоматериалы, использованные для оформления данной статьи, не были опубликованы в оригинальной книге.
Автор перевода — Вита Хлопова
17.09.2025
Имя Баланчина (или Баланчивадзе, как мы называли его в России) всегда витало в воздухе в балетном мире моего юношества. Особенно ясно я это помню в 1960 году, когда в Россию приехал American Ballet Theatre с Марией Толчиф, Эриком Бруном, Ройесом Фернандесом и Лупе Серрано. Мы знали, что они будут танцевать «Тему и вариации» Баланчина. Для меня это должно было стать первым знакомством с его балетом — через тридцать шесть лет после того, как он уехал от нас на Запад. Я отчаянно хотел это увидеть. Возможно, слишком явно показал своё желание, потому что власти отправили меня танцевать в Германию. Им, видимо, не хотелось, чтобы я оказался под влиянием западных стилей или чего-то подобного. Когда я вернулся, друзья рассказали мне обо всём. Они даже сняли балет на примитивную 8-миллиметровую камеру — без музыки — и показали мне. Я сказал: «Какой прекрасный балет!» — и поклялся, что однажды выучу его. Так и случилось: Эрик Брун разучил со мной партию, и в ноябре 1962 года я станцевал её с Ballet Theatre.
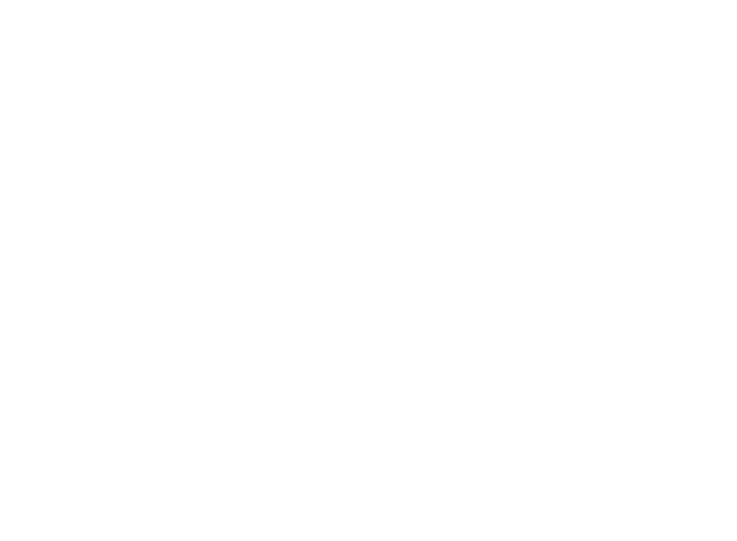
Эрик Брун и Мария Толчиф во время гастролей труппы ABT в СССР в 1960-м году
Первым балетом Баланчина, о котором я услышал, был «Хрустальный дворец» («Симфония до мажор»), когда балет Парижской оперы приехал в Москву в конце 1950-х. Увидеть его я тоже не смог — в то время я был в Ленинграде, — но удалось взглянуть на отрывки из третьей части на киноплёнке.
Третье моё знакомство с Баланчиным — и первое, когда я увидел спектакль целиком, — произошло, когда труппа Алисии Алонсо привезла в Россию «Аполлона». Я был потрясён. Помню, как после спектакля пришёл на репетицию к Юрию Григоровичу, который тогда ставил для меня «Легенду о любви», и стал повторять все движения Аполлона. Думал: «Как странно, как необычно, как восхитительно!»
В 1962 году, приехав в Нью-Йорк, я познакомился с Баланчиным лично. Я ходил на его спектакли, и он несколько раз приглашал меня в Russian Tea Room. Не знаю, зачем — наверное, хотел понять, что я за человек. Он был чрезвычайно дружелюбен. Мы говорили о Пушкине, о русской литературе, о Чайковском. Из двух опер Чайковского по Пушкину я обожал «Пиковую даму», а он предпочитал «Евгения Онегина». Так что у нас не совсем совпадали вкусы.
Помню, как после того, как я станцевал «Тему с вариациями» с ABT в Чикаго, мне очень хотелось поблагодарить его письмом — но застенчивость и, наверное, русская лень взяли верх, и я так и не написал. Встретив его, я хотел сказать, как высоко ценю его балеты. Но, говоря о «Теме с вариациями», он вдруг произнёс: «О, это худший балет, что я сделал. Просто Алисия Алонсо и Юскевич не могли его танцевать». Для меня это было словно холодный душ.
Третье моё знакомство с Баланчиным — и первое, когда я увидел спектакль целиком, — произошло, когда труппа Алисии Алонсо привезла в Россию «Аполлона». Я был потрясён. Помню, как после спектакля пришёл на репетицию к Юрию Григоровичу, который тогда ставил для меня «Легенду о любви», и стал повторять все движения Аполлона. Думал: «Как странно, как необычно, как восхитительно!»
В 1962 году, приехав в Нью-Йорк, я познакомился с Баланчиным лично. Я ходил на его спектакли, и он несколько раз приглашал меня в Russian Tea Room. Не знаю, зачем — наверное, хотел понять, что я за человек. Он был чрезвычайно дружелюбен. Мы говорили о Пушкине, о русской литературе, о Чайковском. Из двух опер Чайковского по Пушкину я обожал «Пиковую даму», а он предпочитал «Евгения Онегина». Так что у нас не совсем совпадали вкусы.
Помню, как после того, как я станцевал «Тему с вариациями» с ABT в Чикаго, мне очень хотелось поблагодарить его письмом — но застенчивость и, наверное, русская лень взяли верх, и я так и не написал. Встретив его, я хотел сказать, как высоко ценю его балеты. Но, говоря о «Теме с вариациями», он вдруг произнёс: «О, это худший балет, что я сделал. Просто Алисия Алонсо и Юскевич не могли его танцевать». Для меня это было словно холодный душ.
Впервые в Америке я выступил в Brooklyn Academy of Music. Мне хотелось попасть в труппу Баланчина, но он считал, что я «не подхожу» для его балетов. «Мои балеты сухие, — сказал он. — Думаю, тебе это не будет интересно». Я возразил: «Но мне как раз нравится эта сухость — это меня привлекает!» Тогда он сказал: «Нет, нет, иди танцуй своих принцев, устанешь от них — вернёшься ко мне». Но я не устал от принцев, и они не устали от меня. Тем не менее я всё же пришёл к нему. В 1979 году он поставил для меня в Нью-Йорке «Мещанина во дворянстве».
Это было замечательно, хотя и непросто. Когда у Баланчина случились проблемы с сердцем, пробелы должен был закрыть Джером Роббинс. Он сказал мне: «Ты знаешь, ты можешь всё отменить. Если с Джорджем что-то случится, это будет на твоей совести». Но я ответил: «Нет, такие вещи предначертаны судьбой. Я здесь». Я пытался заставить Баланчина беречь себя и не вставать во время репетиций, но он отказывался — хотел всё держать под контролем. Никакая сила не могла заставить его присесть или пойти более легким путем.
Это было замечательно, хотя и непросто. Когда у Баланчина случились проблемы с сердцем, пробелы должен был закрыть Джером Роббинс. Он сказал мне: «Ты знаешь, ты можешь всё отменить. Если с Джорджем что-то случится, это будет на твоей совести». Но я ответил: «Нет, такие вещи предначертаны судьбой. Я здесь». Я пытался заставить Баланчина беречь себя и не вставать во время репетиций, но он отказывался — хотел всё держать под контролем. Никакая сила не могла заставить его присесть или пойти более легким путем.
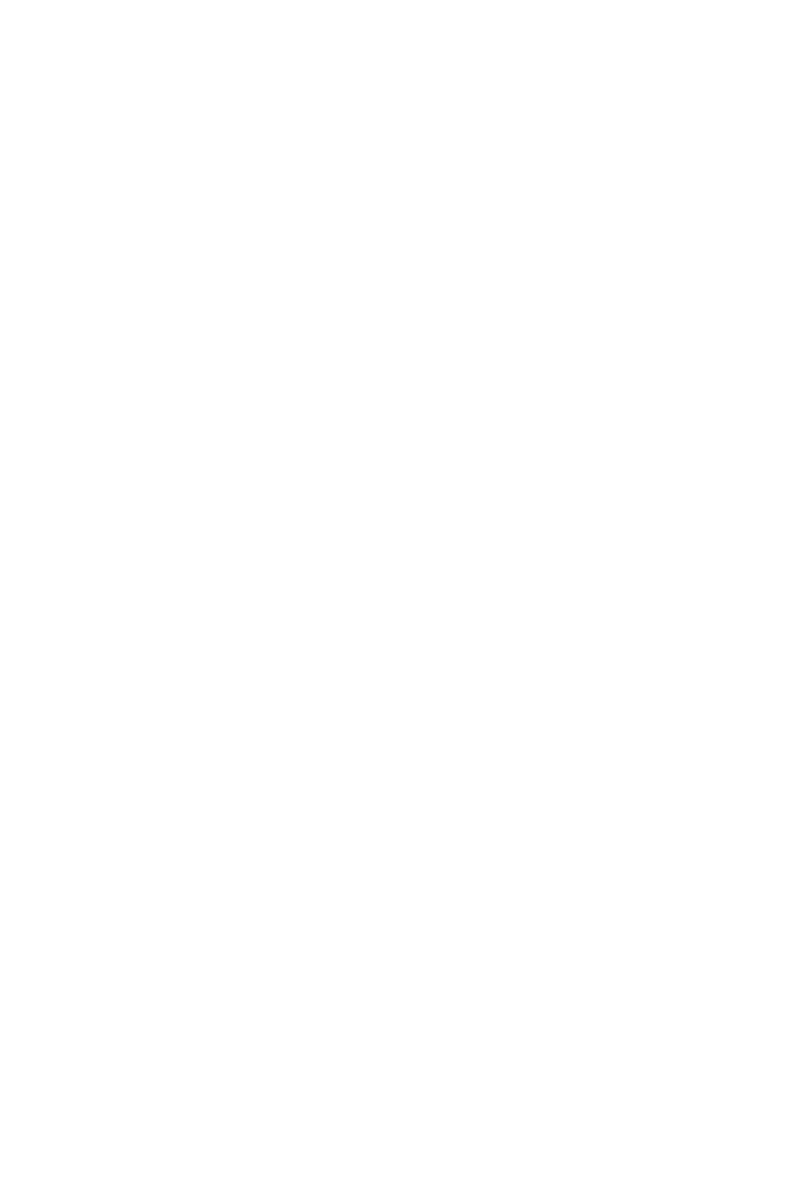
Рудольф Нуреев в балете «Мещанин во дворянстве»
Даже когда я просил: «Мистер Баланчин, мне нужно постоять и посчитать такты», он не садился. После репетиций мы шли на примерку костюмов, которая могла длиться два-три часа. Я спрашивал: «Вы поедете домой, отдохнёте, пообедаете?» — а он отвечал: «Нет, нет, домой я не езжу. Только чуть-чуть водки — и снова в театр». И вот он уже стоял, как всегда, за кулисами во время спектакля, наблюдал — никогда не сидя, всегда стоя.
Что я особенно любил в нём — так это его отношение к работе. Когда он ставил па-де-де в "Мещанине во дворянстве", он сказал пианисту: «Сыграйте музыку». Мы слушали. Затем он объяснил, в каком темпе это должно звучать, и спросил: «Где конец? Где кульминация?» Пианист сыграл. Баланчин сказал: «Ага, и что же нам с этим делать? Дайте подумать». Потом он придумывал позу или комбинацию, которой мог бы завершиться па-де-де. Но это было лишь предварительно, потому что следом он говорил: «А теперь сыграйте кульминацию, которая была раньше».
Он работал от конца к началу, аналитически выстраивая, где именно танец должен достигнуть пика вместе с музыкой. И вот, услышав эту более раннюю кульминацию, от которой музыка начинала нарастать, он говорил: «Теперь будем сочинять».
Что я особенно любил в нём — так это его отношение к работе. Когда он ставил па-де-де в "Мещанине во дворянстве", он сказал пианисту: «Сыграйте музыку». Мы слушали. Затем он объяснил, в каком темпе это должно звучать, и спросил: «Где конец? Где кульминация?» Пианист сыграл. Баланчин сказал: «Ага, и что же нам с этим делать? Дайте подумать». Потом он придумывал позу или комбинацию, которой мог бы завершиться па-де-де. Но это было лишь предварительно, потому что следом он говорил: «А теперь сыграйте кульминацию, которая была раньше».
Он работал от конца к началу, аналитически выстраивая, где именно танец должен достигнуть пика вместе с музыкой. И вот, услышав эту более раннюю кульминацию, от которой музыка начинала нарастать, он говорил: «Теперь будем сочинять».
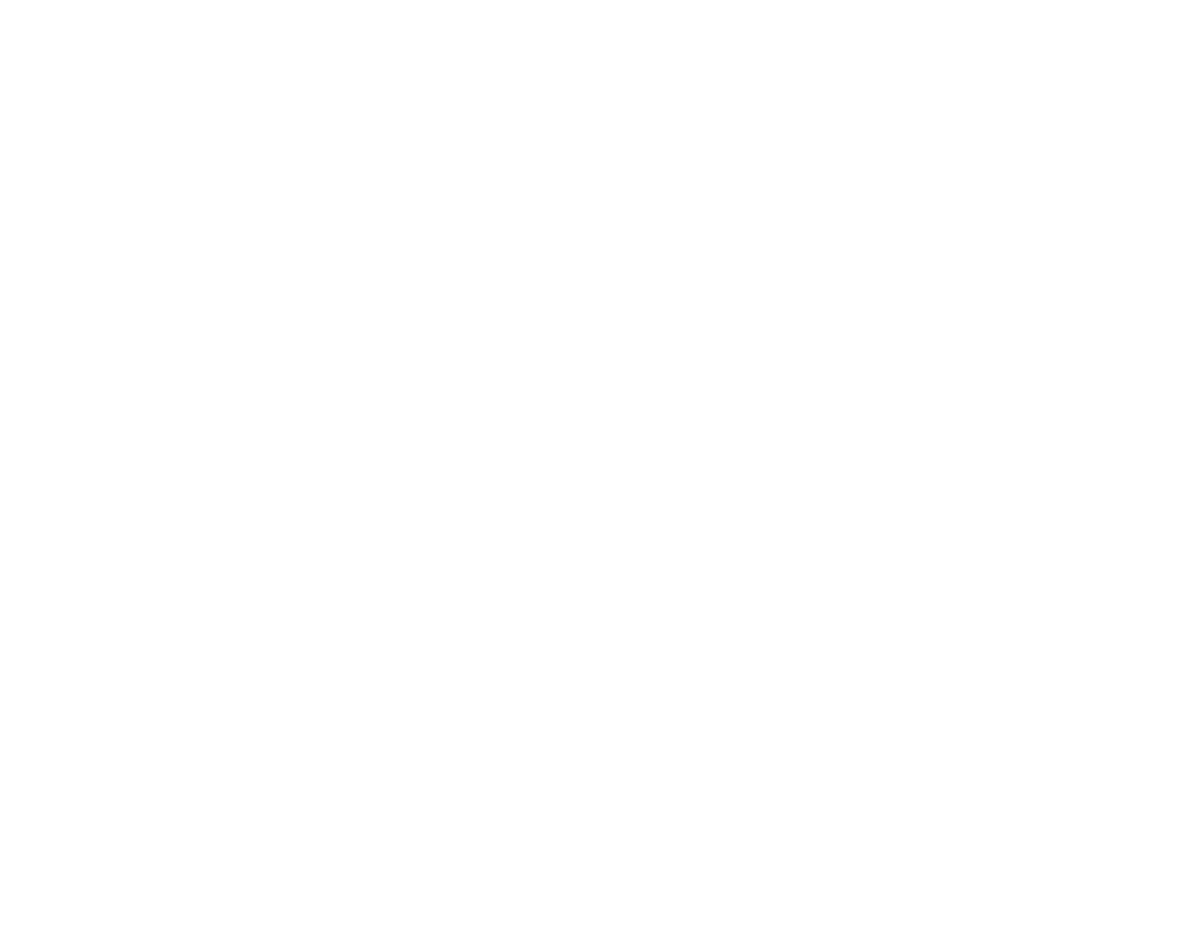
Рудольф Нуреев в балете «Аполлон»
Большие партии Баланчина я изучал у лучших мастеров. Джон Тарас разучил со мной «Блудного сына» и «Аполлона». Первый я исполнил в Ковент-Гардене с Королевским балетом. А вот «Аполлона» они мне не разрешили танцевать там, поэтому я поехал в Вену, где спектакль специально поставили для меня, и куда приехал Джон Тарас, чтобы работать со мной над этой партией.
Ещё раньше Эрик Брун многому меня научил в исполнении «Аполлона». Он сам должен был однажды танцевать эту партию с труппой New York City Ballet, но по какой-то причине отказался.
Ещё раньше Эрик Брун многому меня научил в исполнении «Аполлона». Он сам должен был однажды танцевать эту партию с труппой New York City Ballet, но по какой-то причине отказался.
Однако он репетировал балет с Баланчиным и пересказал мне, что тот говорил о спектакле, о смысле каждого движения. После того как я впервые исполнил «Аполлона» в Вене, я танцевал его в Ла Скала в Милане и в Амстердаме. Позже я приехал в Лондон вместе с Голландским национальным балетом и станцевал эту партию в театре Sadler’s Wells. И в конце концов Королевский балет был вынужден дать мне эту партию.
«Тему с вариациями» я танцевал с Лупе Серрано — и считал её выдающейся. Ни Гелси Киркланд, ни кто-либо ещё не приблизились к тому, что делала Лупе. Я любил и «Агон», впервые увидев его, был поражён. Партию в первом па-де-труа исполнял Эдвард Вилелла. Я с огромным удовольствием разучил этот балет. Помню, как после моего первого выступления Джерри Роббинс тепло похвалил мою ясность и точность. «Орфея» я учил у Розмари Данливи и Джона Тараса.
Долгое время между мной и Баланчиным словно пробегала чёрная кошка. Думаю, начало этому положила статья, где журналист вложил в мои уста слова о том, почему Баланчин якобы не ставит мужские партии. Наверное, он это услышал. Но мы-то знаем: его мужские роли — потрясающие. Да, источником вдохновения для него были женщины, но и для мужчин он создавал блестящие партии.
«Тему с вариациями» я танцевал с Лупе Серрано — и считал её выдающейся. Ни Гелси Киркланд, ни кто-либо ещё не приблизились к тому, что делала Лупе. Я любил и «Агон», впервые увидев его, был поражён. Партию в первом па-де-труа исполнял Эдвард Вилелла. Я с огромным удовольствием разучил этот балет. Помню, как после моего первого выступления Джерри Роббинс тепло похвалил мою ясность и точность. «Орфея» я учил у Розмари Данливи и Джона Тараса.
Долгое время между мной и Баланчиным словно пробегала чёрная кошка. Думаю, начало этому положила статья, где журналист вложил в мои уста слова о том, почему Баланчин якобы не ставит мужские партии. Наверное, он это услышал. Но мы-то знаем: его мужские роли — потрясающие. Да, источником вдохновения для него были женщины, но и для мужчин он создавал блестящие партии.
Русскому балету нужно наверстывать Баланчина. Они пропустили важнейшее развитие своей собственной классики в XX веке, и этот разрыв до сих пор чувствуется. Хореография в России страдает от того, что не умеет работать с музыкой. Подумать только — сколько Стравинского они потеряли! У Баланчина была потрясающе широкая лексика, идеально соединённая с современной музыкой.
И всё же Баланчин должен был уехать в Америку. Ни в одной другой стране он бы не раскрылся так. Я уверен, что и Бродвей, и Фред Астер оказали огромное влияние на его стиль. В отличие от советских хореографов, которые ждали сигналов от музыки, Баланчин сам накладывал свои ритмы.
И всё же Баланчин должен был уехать в Америку. Ни в одной другой стране он бы не раскрылся так. Я уверен, что и Бродвей, и Фред Астер оказали огромное влияние на его стиль. В отличие от советских хореографов, которые ждали сигналов от музыки, Баланчин сам накладывал свои ритмы.
То, что Кировский театр в 1989 году впервые исполнил «Тему с вариациями» и «Шотландскую симфонию"* — это только начало. Я бы предпочёл, чтобы они начали с «Серенады», «Четырех темпераментов» и «Агона».
В Парижскую оперу я перенес «Скрипичный концерт Стравинского» и «Симфонию в трёх частях». Когда я возглавил балетную труппу, я настоял, чтобы и школа под руководством Клод Бесси включила Баланчина в программу. Детям пришлось танцевать его «Гробницу Куперена». Это было непопулярное решение, но я хотел, чтобы они выходили на сцену Оперы подготовленными, дисциплинированными, умеющими считать ритм и быть точными.
В последний раз я видел Баланчина в больнице во время его последней болезни. Рубен Тер-Арутюнян предложил мне навестить его. Когда я спросил, что мне принести, он сказал: «Икру и Château d’Yquem, разделите это с ним». Баланчин был очень болен в тот день, когда я пришёл в больницу Рузвельта, но вкус икры и вина настолько его порадовали, что глаза его засияли, и он протянул руки, чтобы обнять меня и Рубена. Мы говорили по-русски и по-французски. Было очень грустно; я вспоминал прежние, более счастливые времена. Я хотел узнать, не передаст ли он часть своих балетов Кировскому театру в Ленинграде, но он совершенно не проявил интереса. Он сказал: «Когда я умру, всё должно исчезнуть. Пусть придёт новый человек и принесёт свои новые идеи».
В Парижскую оперу я перенес «Скрипичный концерт Стравинского» и «Симфонию в трёх частях». Когда я возглавил балетную труппу, я настоял, чтобы и школа под руководством Клод Бесси включила Баланчина в программу. Детям пришлось танцевать его «Гробницу Куперена». Это было непопулярное решение, но я хотел, чтобы они выходили на сцену Оперы подготовленными, дисциплинированными, умеющими считать ритм и быть точными.
В последний раз я видел Баланчина в больнице во время его последней болезни. Рубен Тер-Арутюнян предложил мне навестить его. Когда я спросил, что мне принести, он сказал: «Икру и Château d’Yquem, разделите это с ним». Баланчин был очень болен в тот день, когда я пришёл в больницу Рузвельта, но вкус икры и вина настолько его порадовали, что глаза его засияли, и он протянул руки, чтобы обнять меня и Рубена. Мы говорили по-русски и по-французски. Было очень грустно; я вспоминал прежние, более счастливые времена. Я хотел узнать, не передаст ли он часть своих балетов Кировскому театру в Ленинграде, но он совершенно не проявил интереса. Он сказал: «Когда я умру, всё должно исчезнуть. Пусть придёт новый человек и принесёт свои новые идеи».
- Здесь можно посмотреть запись в Кировском театре балетов "Тема с вариациями" и "Шотландская симфония"
Закрытый клуб о Баланчине
Если вы хотите больше знать о Джордже Баланчине, присоединяйтесь к нашему телеграм-клубу, где мы изучаем его творчество, а также тандем с балериной Сюзан Фаррел, и их совместную работу «Драгоценности»