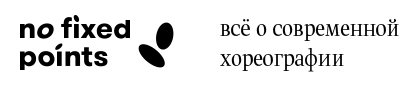«Дягилев, которого я знал»
Публикация перевода статьи Игоря Стравинского, написанной к 25-летию
со дня смерти Сергея Дягилева
со дня смерти Сергея Дягилева
21 ноября 1953 года на первой полосе французской газеты Le Figaro Littéraire появилось эссе композитора Игоря Стравинского Le Diaghilev que j'ai connu, приуроченное к 25-й годовщине смерти Сергея Дягилева.
Кажется, на русском языке это эссе не публиковалось, а текст необычайно интересный и ценный, поэтому публикуем его перевод ниже.
Кажется, на русском языке это эссе не публиковалось, а текст необычайно интересный и ценный, поэтому публикуем его перевод ниже.
Перевод и научная редактура текста — Вита Хлопова
19 августа 2025 год
Игорь стравинский
Дягилев, которого я знал
Эссе, опубликованное 21 ноября 1953 года в газете Le Figaro Littéraire
Впервые я познакомился с Дягилевым осенью 1909 года, когда он пришел ко мне с просьбой написать музыку к «Жар-птице». До этого момента он занимал видное место в петербургском мире искусства благодаря своей огромной активности и осознанной и терпеливой борьбе с невежеством и провинциализмом, царившими в русских художественных кругах того времени. Естественно, я давно был поражен великолепными результатами, достигнутыми его прекрасными публикациями и блестящими выставками. Но наши личные отношения начались только с того дня, когда он поручил мне написать музыку к «Жар-птице».
Живя с ним в одном городе, я, конечно, имел множество возможностей встретиться с ним, но должен признаться, что никогда не искал их. Его репутация представляла его как надменного, высокомерного и, прямо скажем, снобистского персонажа. Признаться честно, последующее общение с ним не убедило меня в абсолютной ложности такой репутации. Но если его черты не были исключительно симпатичными, то те, которые казались наиболее порицаемыми, не были частью его глубокой натуры. Напротив, он использовал их, чтобы лучше защищать ее, используя как экран против народной глупости, которую он хотел держать на расстоянии. Однако я никогда не видел, чтобы он был груб с кем-то. Он всегда был прекрасно воспитан, с кем бы ни встречался. Говоря русским языком, он всегда вел себя как барин, то есть как большой господин.
Живя с ним в одном городе, я, конечно, имел множество возможностей встретиться с ним, но должен признаться, что никогда не искал их. Его репутация представляла его как надменного, высокомерного и, прямо скажем, снобистского персонажа. Признаться честно, последующее общение с ним не убедило меня в абсолютной ложности такой репутации. Но если его черты не были исключительно симпатичными, то те, которые казались наиболее порицаемыми, не были частью его глубокой натуры. Напротив, он использовал их, чтобы лучше защищать ее, используя как экран против народной глупости, которую он хотел держать на расстоянии. Однако я никогда не видел, чтобы он был груб с кем-то. Он всегда был прекрасно воспитан, с кем бы ни встречался. Говоря русским языком, он всегда вел себя как барин, то есть как большой господин.
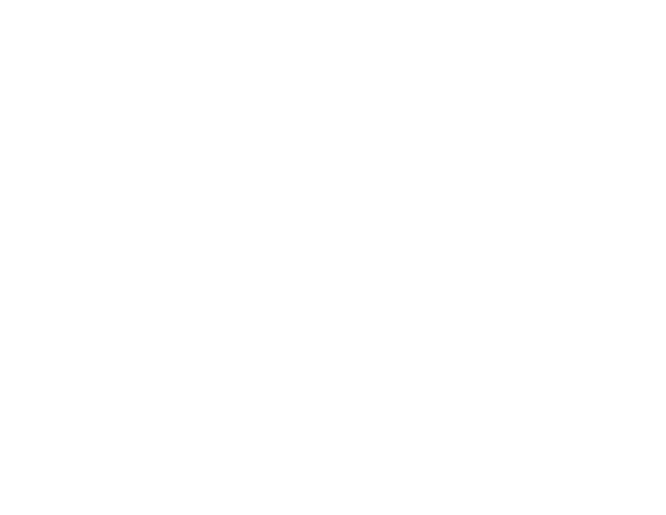
Фотография Бориса Липницкого, опубликованная в статье.
Карсавина, Дягилев, Нижинский и Лифарь, 1927 год
Карсавина, Дягилев, Нижинский и Лифарь, 1927 год
Чем больше я думаю об этом, тем больше это слово «барин» кажется мне заключающим в себе весь его портрет, одновременно объясняющим его поразительную деятельность в качестве вдохновителя, пропагандиста и импресарио длинного ряда художественных событий, от обозрения «Мир искусства» до многочисленных художественных выставок, исторической выставки портретов в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, русских концертов в Парижской опере, русских опер — в частности, парижской премьеры «Бориса Годунова» в 1908 году — и, наконец, его коронного достижения, создания «Русского балета».
Именно этот тип культурного барина, существовавший в России того времени, — тип щедрого человека, полного энергии и капризов, движимого неукротимой волей, острым чувством контрастов и традициями предков, — может дать нам ключ к Дягилеву и объяснить оригинальность его творений, столь отличных от обычных художественных начинаний. Он привнес в них не только свой интеллект, свою культуру, свое необыкновенное художественное чутье и свой искренний энтузиазм, но и железную волю, почти сверхчеловеческое упорство и стойкость, страсть к борьбе и победе над самыми непреодолимыми препятствиями.
Рожденный повелевать, он умел заставить подчиняться себе простым авторитетом и властью, никогда не прибегая к насилию. Он утверждал себя как просвещенный деспот, непререкаемый лидер, который действует вопреки самому упорному сопротивлению иногда с помощью убеждения, но чаще всего благодаря своему личному обаянию. Его страстная преданность делу, которое было целью его жизни, и новым идеям, которые он пробуждал, его полное бескорыстие завоевали ему сердца всех.
Не было недостатка в тех, кто утверждал, что дягилевские «Русские балеты" — это не что иное, как императорские „Русские балеты“ в том самом виде, в каком они были представлены в Петербурге и Москве до Дягилева, роль которого была сведена к роли ловкого импресарио. Те, кто так говорит, совершают не только серьезную ошибку, но и вопиющую несправедливость, и просто констатируют собственное невежество. Из репертуара Дягилева, включавшего не менее пятидесяти произведений, только три балета — „Павильон Армиды“, „Сильфида“ и "Карнавал" — были поставлены в Петербурге до гастролей Ballets Russes в Европе. Эти три балета были полностью переработаны, прежде чем были представлены в течение двух парижских сезонов. Позже, вернувшись к классическому танцу, Дягилев возродил два акта из "Лебединого озера» и "Спящей красавицы" Чайковского. Но все остальные произведения в его репертуаре были его собственными творениями, поставленными с соавторами, выбранными только им. Он один определял сюжет, назначал композитора, сценографа, балетмейстера и актеров. Он руководил монтажом и контролировал постановку. Каждый из его спектаклей нес на себе его личный отпечаток, что придавало ему всю свою ценность и оригинальность.
Не стоит забывать, что к моменту отъезда Дягилева в Европу репертуар Императорского русского балета состоял в основном из массивных спектаклей в четырех действиях и многочисленных сцен, в которых смешивалось лучшее и худшее. Сочиненные в соответствии с устаревшими традициями, на скучные сюжеты, представленные в богатых, но условных декорациях и неизменных костюмах без малейшей заботы об общей гармонии, они, несмотря ни на что, спасались восхитительным исполнением кордебалета и выдающихся солистов. Но вся хореография так и осталась окаменевшей в архаичных формах, исключающих любые попытки обновления и вдохновения. Музыкальные партитуры, за исключением нескольких произведений Чайковского и Глазунова, были еще более посредственными и безнадежно банальными.
Заслуга Дягилева — и ее невозможно измерить — состояла в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в этот мертвый балет, оживить его форму, скоординировать различные элементы, сделать его однородным произведением и тем самым поднять его на самый высокий уровень художественного творчества. В выполнении этой грандиозной задачи ему помогала восхитительная команда молодых имперских артистов, которую он собрал вокруг себя в первые годы своей работы и из которой вскоре вышли блестящие звезды будущего. Кому сейчас не знакомы имена Карсавиной и Нижинского, а также не менее престижные имена Больма и Фокина? Последний начинал как балетмейстер в Петербурге, где его смелые инициативы напугали старую консервативную гвардию. В организации Дягилева Фокин, напротив, смог расширить сферу своей деятельности и развить свой талант до чудесных высот.
Позже, с началом Первой мировой войны, большинство этих артистов были репатриированы, и именно тогда Дягилев нанял и собрал свою собственную труппу, которую он обучал в эти трудные годы с помощью знаменитого педагога Энрико Чеккетти. В списке молодой труппы мы с удовольствием отмечаем имена Немчиновой, Соколовой, Мясина, Войциковского, Долина и Лифаря. Когда после революции в России некоторым артистам старого Императорского театра удалось эмигрировать за границу, Дягилев принял их с распростертыми объятиями, ведь он всегда был горячим поклонником классической школы танца, которую считал фундаментальной основой всего хореографического искусства. Именно тогда он пригласил знаменитую танцовщицу Ольгу Спесивцеву на главную роль в "Спящей красавице", которую ставил в Лондоне. Для него она была воплощением классического танца. В то же время он ангажировал Данилову и Жоржа Баланчина, в котором узнал великого балетмейстера, которому впоследствии доверил постановку большинства своих балетов.
Если я и получал удовольствие, прослеживая путь Дягилева, то только потому, что различные этапы этого пути подтверждают истину, что Русский балет в том виде, в котором мы его видим, был действительно исключительным творением Дягилева и его соратников. До него ничего подобного не существовало, и именно ему мы обязаны сотней с лишним достижений хореографического искусства во всем мире и тем всеобщим восхищением, которое оно вызывает. В подтверждение этого утверждения хочется добавить, что и сегодня репертуар Дягилева является основой, вдохновляющей большинство хореографических коллективов, которые пытались стать его преемниками. И, по необычному стечению обстоятельств, Россия остается единственной страной в мире, которая никогда не аплодировала этим балетам! Насколько мне известно, в русский репертуар вошел только балет «Петрушка», поставленный через десять лет после создания за рубежом. «Жар-птица» и «Пульчинелло»* появились лишь мельком. Воистину, никто не является пророком в своем отечестве!
*У Стравинского написано на конце "О", а не "а", поэтому оставим так.
Именно этот тип культурного барина, существовавший в России того времени, — тип щедрого человека, полного энергии и капризов, движимого неукротимой волей, острым чувством контрастов и традициями предков, — может дать нам ключ к Дягилеву и объяснить оригинальность его творений, столь отличных от обычных художественных начинаний. Он привнес в них не только свой интеллект, свою культуру, свое необыкновенное художественное чутье и свой искренний энтузиазм, но и железную волю, почти сверхчеловеческое упорство и стойкость, страсть к борьбе и победе над самыми непреодолимыми препятствиями.
Рожденный повелевать, он умел заставить подчиняться себе простым авторитетом и властью, никогда не прибегая к насилию. Он утверждал себя как просвещенный деспот, непререкаемый лидер, который действует вопреки самому упорному сопротивлению иногда с помощью убеждения, но чаще всего благодаря своему личному обаянию. Его страстная преданность делу, которое было целью его жизни, и новым идеям, которые он пробуждал, его полное бескорыстие завоевали ему сердца всех.
Не было недостатка в тех, кто утверждал, что дягилевские «Русские балеты" — это не что иное, как императорские „Русские балеты“ в том самом виде, в каком они были представлены в Петербурге и Москве до Дягилева, роль которого была сведена к роли ловкого импресарио. Те, кто так говорит, совершают не только серьезную ошибку, но и вопиющую несправедливость, и просто констатируют собственное невежество. Из репертуара Дягилева, включавшего не менее пятидесяти произведений, только три балета — „Павильон Армиды“, „Сильфида“ и "Карнавал" — были поставлены в Петербурге до гастролей Ballets Russes в Европе. Эти три балета были полностью переработаны, прежде чем были представлены в течение двух парижских сезонов. Позже, вернувшись к классическому танцу, Дягилев возродил два акта из "Лебединого озера» и "Спящей красавицы" Чайковского. Но все остальные произведения в его репертуаре были его собственными творениями, поставленными с соавторами, выбранными только им. Он один определял сюжет, назначал композитора, сценографа, балетмейстера и актеров. Он руководил монтажом и контролировал постановку. Каждый из его спектаклей нес на себе его личный отпечаток, что придавало ему всю свою ценность и оригинальность.
Не стоит забывать, что к моменту отъезда Дягилева в Европу репертуар Императорского русского балета состоял в основном из массивных спектаклей в четырех действиях и многочисленных сцен, в которых смешивалось лучшее и худшее. Сочиненные в соответствии с устаревшими традициями, на скучные сюжеты, представленные в богатых, но условных декорациях и неизменных костюмах без малейшей заботы об общей гармонии, они, несмотря ни на что, спасались восхитительным исполнением кордебалета и выдающихся солистов. Но вся хореография так и осталась окаменевшей в архаичных формах, исключающих любые попытки обновления и вдохновения. Музыкальные партитуры, за исключением нескольких произведений Чайковского и Глазунова, были еще более посредственными и безнадежно банальными.
Заслуга Дягилева — и ее невозможно измерить — состояла в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в этот мертвый балет, оживить его форму, скоординировать различные элементы, сделать его однородным произведением и тем самым поднять его на самый высокий уровень художественного творчества. В выполнении этой грандиозной задачи ему помогала восхитительная команда молодых имперских артистов, которую он собрал вокруг себя в первые годы своей работы и из которой вскоре вышли блестящие звезды будущего. Кому сейчас не знакомы имена Карсавиной и Нижинского, а также не менее престижные имена Больма и Фокина? Последний начинал как балетмейстер в Петербурге, где его смелые инициативы напугали старую консервативную гвардию. В организации Дягилева Фокин, напротив, смог расширить сферу своей деятельности и развить свой талант до чудесных высот.
Позже, с началом Первой мировой войны, большинство этих артистов были репатриированы, и именно тогда Дягилев нанял и собрал свою собственную труппу, которую он обучал в эти трудные годы с помощью знаменитого педагога Энрико Чеккетти. В списке молодой труппы мы с удовольствием отмечаем имена Немчиновой, Соколовой, Мясина, Войциковского, Долина и Лифаря. Когда после революции в России некоторым артистам старого Императорского театра удалось эмигрировать за границу, Дягилев принял их с распростертыми объятиями, ведь он всегда был горячим поклонником классической школы танца, которую считал фундаментальной основой всего хореографического искусства. Именно тогда он пригласил знаменитую танцовщицу Ольгу Спесивцеву на главную роль в "Спящей красавице", которую ставил в Лондоне. Для него она была воплощением классического танца. В то же время он ангажировал Данилову и Жоржа Баланчина, в котором узнал великого балетмейстера, которому впоследствии доверил постановку большинства своих балетов.
Если я и получал удовольствие, прослеживая путь Дягилева, то только потому, что различные этапы этого пути подтверждают истину, что Русский балет в том виде, в котором мы его видим, был действительно исключительным творением Дягилева и его соратников. До него ничего подобного не существовало, и именно ему мы обязаны сотней с лишним достижений хореографического искусства во всем мире и тем всеобщим восхищением, которое оно вызывает. В подтверждение этого утверждения хочется добавить, что и сегодня репертуар Дягилева является основой, вдохновляющей большинство хореографических коллективов, которые пытались стать его преемниками. И, по необычному стечению обстоятельств, Россия остается единственной страной в мире, которая никогда не аплодировала этим балетам! Насколько мне известно, в русский репертуар вошел только балет «Петрушка», поставленный через десять лет после создания за рубежом. «Жар-птица» и «Пульчинелло»* появились лишь мельком. Воистину, никто не является пророком в своем отечестве!
*У Стравинского написано на конце "О", а не "а", поэтому оставим так.
Расплавленный котел
Как и у всех великих личностей, у Дягилева были и фанатичные друзья, и злейшие враги. Сам он и не думал скрывать ни своих предпочтений, ни ненависти — все они были жестокими. Больше всего он презирал банальность, некомпетентность и отсутствие мастерства. Часто он демонстрировал свою неприязнь пренебрежительным отношением. На работе он был властным деспотом и ни с кем не делился своими обязанностями. Однако он соглашался прислушаться к советам своих друзей и прежде всего тех, чью компетентность он признавал. Но как только он принимал решение, никакая сила в мире не могла отвратить его от него. Эта тирания, которая была единственным способом добиться намеченных результатов, вызвала негодование его коллег. Ссоры вокруг него множились и порой перерастали в драму.
Разве он не был первым, кто проявлял ревность во всех своих дружеских отношениях, особенно в тех, которые были ему дороже всего? Он никогда бы не позволил своим соратникам работать на кого-то, кроме себя, и заклеймил бы как предателей любого, кто попытался бы это сделать. Но в то же время он всегда был начеку и искал новые таланты, которые обнаруживал по тайным подсказкам, неизвестным всем. Жадный до чужой преданности, он был переменчив, постоянно обновляя свою команду менеджеров и артистов. Это не обходилось без вспышек гнева со стороны его бывших соратников, которые с грустью смотрели на новичков, не понимая, что проявляют ту же ревность, в которой упрекали Дягилева. Легко представить себе внутренние разногласия, которые часто разрывали труппу на части, и последовавшие за ними длительные разрывы. Однако они не были вечными и, как бы то ни было, вскоре утихли на благо искусства.
В результате все, кто покидал Дягилева после нескольких вспышек драматизма, с тоской вспоминали его «лабораторию», этот вечно плавящийся котел, из которого выходили незабываемые творения, и, очарованные этим сиянием, забыв все ссоры и обиды, вскоре возвращались. Что касается Дягилева, чей бурный гнев разлучил их, то он сам забывал о своих обидах и принимал заблудших овец с распростертыми объятиями.
Разве он не был первым, кто проявлял ревность во всех своих дружеских отношениях, особенно в тех, которые были ему дороже всего? Он никогда бы не позволил своим соратникам работать на кого-то, кроме себя, и заклеймил бы как предателей любого, кто попытался бы это сделать. Но в то же время он всегда был начеку и искал новые таланты, которые обнаруживал по тайным подсказкам, неизвестным всем. Жадный до чужой преданности, он был переменчив, постоянно обновляя свою команду менеджеров и артистов. Это не обходилось без вспышек гнева со стороны его бывших соратников, которые с грустью смотрели на новичков, не понимая, что проявляют ту же ревность, в которой упрекали Дягилева. Легко представить себе внутренние разногласия, которые часто разрывали труппу на части, и последовавшие за ними длительные разрывы. Однако они не были вечными и, как бы то ни было, вскоре утихли на благо искусства.
В результате все, кто покидал Дягилева после нескольких вспышек драматизма, с тоской вспоминали его «лабораторию», этот вечно плавящийся котел, из которого выходили незабываемые творения, и, очарованные этим сиянием, забыв все ссоры и обиды, вскоре возвращались. Что касается Дягилева, чей бурный гнев разлучил их, то он сам забывал о своих обидах и принимал заблудших овец с распростертыми объятиями.
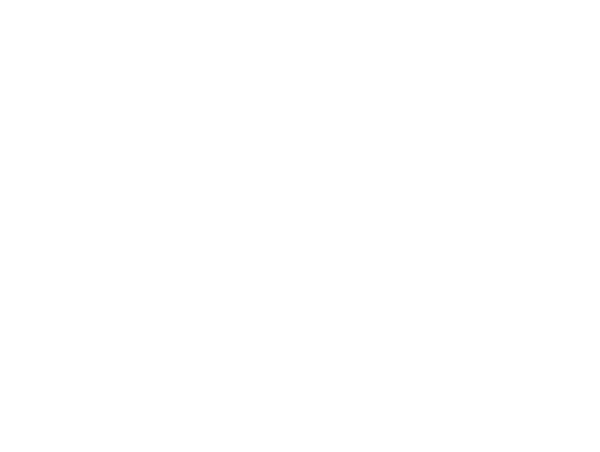
Он питал горячую и просвещенную любовь к музыке. Но его вкусы были изменчивы и не всегда совпадали с моими. У него были определенные предпочтения, которым он оставался тайно верен, даже когда жертвовал ими из соображений целесообразности. Например, он долго не решался ставить Чайковского, которого обожал, по той простой причине, что, по его словам, авангардные круги Парижа относились к этому композитору с большим презрением, по причинам, которые до сих пор остаются для меня загадочными. При всем том он никогда не соглашался идти на уступки тому, что мы называем широкой публикой. Напротив, ему доставляло удовольствие бросать им вызов и шокировать их.
Если бы меня спросили, какую музыку Дягилев любил больше всего, я бы ответил, что, кроме своей собственной — количество моих работ, поставленных им, говорит само за себя, — он любил прежде всего раннюю итальянскую музыку, а также Гуно и Чайковского. Для него было большой радостью искать в итальянских библиотеках старые партитуры и рукописи Перголези, Доменико Скарлатти и Чимарозы. Каково же было его удивление, когда однажды он обнаружил в Le Astuzie Feminili хореографический дивертисмент с русскими мотивами под названием Ballo Russo! Чимароза привез его из своего пребывания при дворе Екатерины II, где он несколько лет был капельмейстером. Дягилев поставил оперу целиком, лишь позднее выделив из нее один акт, которому дал название «Чимарозиана».
Его увлечение Гуно восходит к многочисленным представлениям «Филемона и Бавкида», которые он посетил вместе со мной в 1923 году в парижском театре «Трианон Лирик». Дягилев разыскивал забытые произведения Гуно, и я до сих пор помню, с каким восторгом он слушал «Лекаря поневоле», которую я исполнил для него одного с тем же удовольствием, с каким Дягилев слушал ее. В следующем году он поставил эти две оперы в Монте-Карло с величайшей тщательностью и самой горячей любовью, но его мечта о «ренессансе» Гуно исчезла перед лицом равнодушия снобистской публики, не осмелившейся аплодировать музыке композитора, которого презирал «авангард».
Я был свидетелем самой сильной экзальтации Дягилева в тот день, когда он, чувствуя, что наконец-то пришло время познакомить публику с композитором, которого он никогда не переставал любить, с непревзойденным великолепием поставил в Лондоне балет Чайковского "Спящая красавица". Никогда я не видел, чтобы он работал с таким рвением. После длительной и напряженной подготовки, в которой я принимал активное участие, балет был наконец поставлен с блестящим составом, включавшим самых известных звезд Императорского балета, с декорациями и костюмами, подписанными престижным именем Бакста. Увы, но катастрофа не заставила себя ждать. В конце второго акта, когда над "спящими" артистами должен был медленно подняться заколдованный лес, листва которого скрывала задник сцены, поломка механизмов все испортила. В Петербурге этот лес с легкостью поднялся со сцены благодаря совершенной технике и умелым рабочим. Но в лондонской Альгамбре все оборудование было, к сожалению, гораздо более примитивным. Когда сцена началась, зрители вдруг услышали зловещий скрип, механизмы сломались, и действие закончилось в беспорядке.
Этот досадный инцидент, несомненно, сыграл большую роль в провале спектакля. Дягилев был в отчаянии. На следующий вечер он пережил сильнейшее нервное потрясение, несомненно, вызванное истощением, разочарованием и столькими жизненными силами, потраченными напрасно. Он рыдал как ребенок, и нам с огромным трудом удалось его успокоить. Как ни суеверен он был, этот случай стал для него дурным предзнаменованием, и он внезапно потерял всякую уверенность в своем новом творении, которому отдал столько сил и души.
Если бы меня спросили, какую музыку Дягилев любил больше всего, я бы ответил, что, кроме своей собственной — количество моих работ, поставленных им, говорит само за себя, — он любил прежде всего раннюю итальянскую музыку, а также Гуно и Чайковского. Для него было большой радостью искать в итальянских библиотеках старые партитуры и рукописи Перголези, Доменико Скарлатти и Чимарозы. Каково же было его удивление, когда однажды он обнаружил в Le Astuzie Feminili хореографический дивертисмент с русскими мотивами под названием Ballo Russo! Чимароза привез его из своего пребывания при дворе Екатерины II, где он несколько лет был капельмейстером. Дягилев поставил оперу целиком, лишь позднее выделив из нее один акт, которому дал название «Чимарозиана».
Его увлечение Гуно восходит к многочисленным представлениям «Филемона и Бавкида», которые он посетил вместе со мной в 1923 году в парижском театре «Трианон Лирик». Дягилев разыскивал забытые произведения Гуно, и я до сих пор помню, с каким восторгом он слушал «Лекаря поневоле», которую я исполнил для него одного с тем же удовольствием, с каким Дягилев слушал ее. В следующем году он поставил эти две оперы в Монте-Карло с величайшей тщательностью и самой горячей любовью, но его мечта о «ренессансе» Гуно исчезла перед лицом равнодушия снобистской публики, не осмелившейся аплодировать музыке композитора, которого презирал «авангард».
Я был свидетелем самой сильной экзальтации Дягилева в тот день, когда он, чувствуя, что наконец-то пришло время познакомить публику с композитором, которого он никогда не переставал любить, с непревзойденным великолепием поставил в Лондоне балет Чайковского "Спящая красавица". Никогда я не видел, чтобы он работал с таким рвением. После длительной и напряженной подготовки, в которой я принимал активное участие, балет был наконец поставлен с блестящим составом, включавшим самых известных звезд Императорского балета, с декорациями и костюмами, подписанными престижным именем Бакста. Увы, но катастрофа не заставила себя ждать. В конце второго акта, когда над "спящими" артистами должен был медленно подняться заколдованный лес, листва которого скрывала задник сцены, поломка механизмов все испортила. В Петербурге этот лес с легкостью поднялся со сцены благодаря совершенной технике и умелым рабочим. Но в лондонской Альгамбре все оборудование было, к сожалению, гораздо более примитивным. Когда сцена началась, зрители вдруг услышали зловещий скрип, механизмы сломались, и действие закончилось в беспорядке.
Этот досадный инцидент, несомненно, сыграл большую роль в провале спектакля. Дягилев был в отчаянии. На следующий вечер он пережил сильнейшее нервное потрясение, несомненно, вызванное истощением, разочарованием и столькими жизненными силами, потраченными напрасно. Он рыдал как ребенок, и нам с огромным трудом удалось его успокоить. Как ни суеверен он был, этот случай стал для него дурным предзнаменованием, и он внезапно потерял всякую уверенность в своем новом творении, которому отдал столько сил и души.
Дягилев любил великолепие жизни, пышность жестов и незабываемый блеск прекрасных вещей. Он любил жить полной жизнью. К сожалению, у него никогда не было средств, соответствующих его вкусам. Но как он был счастлив, когда у него было достаточно денег, чтобы хотя бы на мгновение пожить как большой барин!
По правде говоря, Дягилев был достойным потомком той длинной череды русских баринов, которые пренебрегали значением слова «экономия» и с величайшей беспечностью и полной бессознательностью влезали в долги ради единственного удовольствия — удовлетворения своей малейшей прихоти.
По правде говоря, Дягилев был достойным потомком той длинной череды русских баринов, которые пренебрегали значением слова «экономия» и с величайшей беспечностью и полной бессознательностью влезали в долги ради единственного удовольствия — удовлетворения своей малейшей прихоти.
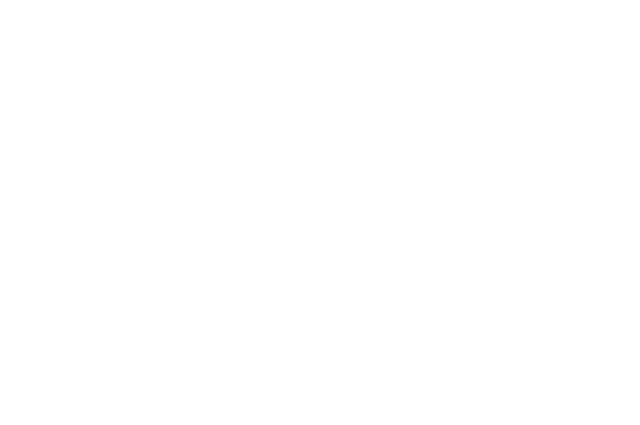
Он унаследовал от них свою щедрую натуру и лишь по собственной прихоти увлекся искусством и культурой. Если бы он был миллионером, то ценой собственного разорения обогатил бы нашу художественную сокровищницу произведениями еще более ослепительными и драгоценными, чем те, которые он нам завещал.
Надо сказать, что даже в периоды своего процветания он никогда не тратил деньги на себя. Я видел, как в последние годы жизни он жил в скромном номере отеля, обычно без ванной комнаты. У него был камердинер, но когда его состояние сократилось, камердинер покинул его, а другого он так и не нанял. Те немногие драгоценности, которыми он владел, были ему подарены. С годами он потерял их или продал, не заботясь о них. У него никогда не было машины, а его одежда часто была поношенной. Друзьям приходилось напоминать ему, чтобы он заказал шляпу (его голова была настолько большой, что он мог носить только специально заказанные для него шляпы). У него никогда не было времени что-то откладывать, потому что, даже если бы у него был вкус, его бизнес стоил больше, чем он зарабатывал, и он жил в постоянном дефиците. Но он был идеалистом, и любой коммерческий дух был ему чужд.
С другой стороны, он был чрезвычайно услужлив по натуре. Я не помню, чтобы он когда-нибудь отказал в услуге, и Бог только знает, сколько его об этом просили! Знаменитое русское гостеприимство было одной из его радостей. Когда с деньгами было туго, он любил держать дом открытым, и гости стекались к нему. Невозможно сосчитать, сколько людей пользовались его щедростью, кто даже жил за счет его щедрости. Я знаю — и могу назвать множество имен, — что в бесчисленных случаях он приходил на помощь друзьям, родственникам и даже случайным знакомым. Но сам он никогда о них не рассказывал, а поскольку получатели помощи часто предпочитали обходить его щедрость молчанием, эти факты, восхваляемые им, так и остались неизвестными.
Надо сказать, что даже в периоды своего процветания он никогда не тратил деньги на себя. Я видел, как в последние годы жизни он жил в скромном номере отеля, обычно без ванной комнаты. У него был камердинер, но когда его состояние сократилось, камердинер покинул его, а другого он так и не нанял. Те немногие драгоценности, которыми он владел, были ему подарены. С годами он потерял их или продал, не заботясь о них. У него никогда не было машины, а его одежда часто была поношенной. Друзьям приходилось напоминать ему, чтобы он заказал шляпу (его голова была настолько большой, что он мог носить только специально заказанные для него шляпы). У него никогда не было времени что-то откладывать, потому что, даже если бы у него был вкус, его бизнес стоил больше, чем он зарабатывал, и он жил в постоянном дефиците. Но он был идеалистом, и любой коммерческий дух был ему чужд.
С другой стороны, он был чрезвычайно услужлив по натуре. Я не помню, чтобы он когда-нибудь отказал в услуге, и Бог только знает, сколько его об этом просили! Знаменитое русское гостеприимство было одной из его радостей. Когда с деньгами было туго, он любил держать дом открытым, и гости стекались к нему. Невозможно сосчитать, сколько людей пользовались его щедростью, кто даже жил за счет его щедрости. Я знаю — и могу назвать множество имен, — что в бесчисленных случаях он приходил на помощь друзьям, родственникам и даже случайным знакомым. Но сам он никогда о них не рассказывал, а поскольку получатели помощи часто предпочитали обходить его щедрость молчанием, эти факты, восхваляемые им, так и остались неизвестными.
Смерть в песне
Дягилев долгое время отличался крепким здоровьем. Его выносливость и работоспособность были невероятны. Бездействие угнетало его, отдых — глубоко угнетал. Поэтому он работал с поразительной быстротой. Но, поскольку ему требовалась геркулесова сила для поддержки, он переоценил свое здоровье. Когда ему перевалило за пятьдесят и врач попросил его ограничить усилия, он отказался что-либо менять в своем образе жизни. Но в нем сохранился тайный ужас перед болезнями и старостью, жуткий страх смерти. Малейшая простуда выводила его из строя. Его пугала даже переправа через Ла-Манш. Единственная поездка в Соединенные Штаты, которую ему пришлось совершить, осталась для него кошмаром. К тому же надо сказать, что ему пришлось совершить её во время войны.
Его страх перед микробами и заразными болезнями был легендарным, до такой степени, что его часто высмеивали. Известно, что в начале века, когда автомобиль был еще неизвестен, по Петербургу распространилась странная болезнь, и было принято считать, что микроб исходит от тягловых лошадей. Одно это утверждение повергло Дягилева в ужас. С тех пор он отказывался от прогулок и пользовался каретами, двери которых были строго закрыты. Венеция стала его любимым городом, потому что там не было лошадей. К счастью, появление автомобилей избавило его от этой фобии.
Из всего этого можно сделать вывод, что Дягилев был ужасно суеверен. Под влиянием своего камердинера-итальянца во время поездок в Италию он добавил к своему и без того богатому репертуару русских суеверий множество итальянских. Его карманы всегда были набиты талисманами, амулетами от сглаза и различными талисманами удачи. Обычно это были монеты, небольшие предметы из рога или кораллов, призванные отгонять судьбу.
Менее чем за два месяца до его смерти произошел случай, который, если бы он знал о нем, добавил бы новый страх к уже существующим. После последнего представления в Париже он отправился в свой обычный ресторан, где к нему должны были присоединиться несколько его артистов, в том числе Серж Лифарь. Серж Лифарь задержался в гримерке, разыскивая посылку, которую оставил на полке. Когда он взял посылку, с полки упал какой-то предмет и разлетелся на тысячу осколков по полу. Это было большое зеркало, принадлежавшее Лифару, которое кто-то положил на посылку. В России разбитое зеркало — роковой знак того, что один из близких людей владельца зеркала умрет. Чтобы отгородиться от судьбы, осколки собирают и бросают в проточную воду! Лифарь так и сделал и побежал к Сене, чтобы выбросить зловещие осколки. Естественно, Дягилеву никто не сказал ни слова. Если бы он знал!
Дягилев умер и был похоронен в Венеции. Ему посчастливилось провести свои последние дни в стране, которую, после своей собственной, он любил больше всех на свете, и в городе, который он предпочитал всем другим. Все, кто был свидетелем его последних минут, рассказывают, что в бреду своей агонии он вдруг начал петь. И пел он мелодию Чайковского. И так, на пороге вечности, в бессознательном его существе сохранилось то, что он любил больше всего, то, что он никогда не переставал любить.
Его страх перед микробами и заразными болезнями был легендарным, до такой степени, что его часто высмеивали. Известно, что в начале века, когда автомобиль был еще неизвестен, по Петербургу распространилась странная болезнь, и было принято считать, что микроб исходит от тягловых лошадей. Одно это утверждение повергло Дягилева в ужас. С тех пор он отказывался от прогулок и пользовался каретами, двери которых были строго закрыты. Венеция стала его любимым городом, потому что там не было лошадей. К счастью, появление автомобилей избавило его от этой фобии.
Из всего этого можно сделать вывод, что Дягилев был ужасно суеверен. Под влиянием своего камердинера-итальянца во время поездок в Италию он добавил к своему и без того богатому репертуару русских суеверий множество итальянских. Его карманы всегда были набиты талисманами, амулетами от сглаза и различными талисманами удачи. Обычно это были монеты, небольшие предметы из рога или кораллов, призванные отгонять судьбу.
Менее чем за два месяца до его смерти произошел случай, который, если бы он знал о нем, добавил бы новый страх к уже существующим. После последнего представления в Париже он отправился в свой обычный ресторан, где к нему должны были присоединиться несколько его артистов, в том числе Серж Лифарь. Серж Лифарь задержался в гримерке, разыскивая посылку, которую оставил на полке. Когда он взял посылку, с полки упал какой-то предмет и разлетелся на тысячу осколков по полу. Это было большое зеркало, принадлежавшее Лифару, которое кто-то положил на посылку. В России разбитое зеркало — роковой знак того, что один из близких людей владельца зеркала умрет. Чтобы отгородиться от судьбы, осколки собирают и бросают в проточную воду! Лифарь так и сделал и побежал к Сене, чтобы выбросить зловещие осколки. Естественно, Дягилеву никто не сказал ни слова. Если бы он знал!
Дягилев умер и был похоронен в Венеции. Ему посчастливилось провести свои последние дни в стране, которую, после своей собственной, он любил больше всех на свете, и в городе, который он предпочитал всем другим. Все, кто был свидетелем его последних минут, рассказывают, что в бреду своей агонии он вдруг начал петь. И пел он мелодию Чайковского. И так, на пороге вечности, в бессознательном его существе сохранилось то, что он любил больше всего, то, что он никогда не переставал любить.
Игорь Стравинский
Телеграм-клуб о Дягилеве
Если вы хотите больше знать о Дягилеве, присоединяйтесь к нашему телеграм-клубу, где мы подробно и глубоко изучили его жизнь.