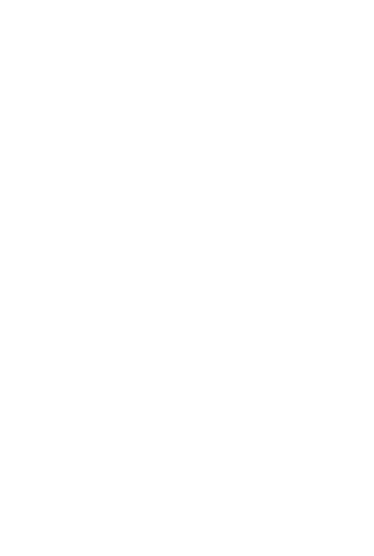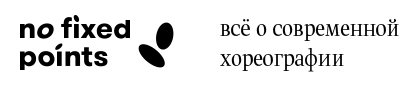Методом Проппа и ошибок
Алевтина Грунтовская о спектакле «Мать» зимнего фестиваля искусств в Сочи
Фотографии — Владимир Богданов
Фотографии — Владимир Богданов
В то время как современный танец и перформанс продолжают свою экспансию в мир искусства, актуальные постановки мира балета или, как его иной раз называют, «современного балета», продолжают появляться. На волне подъема феминистских движений, вопросов о роли матери в воспитании детей особенно важным оказывается спектакль Артура Питы «Мать», который стал частью программы Тринадцатого зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи.
Надо отдать должное: эта постановка — одна из самых ярких и громких на фестивале за последние годы. Происходит так не только благодаря тому, что в постановке танцует прославленная прима-балерина Лондонского королевского балета Наталья Осипова, но и по той причине, что сама постановка, безусловно, самостоятельный и полноценный представитель жанра драматического балета, или как его ещё называют — хореодрамы.
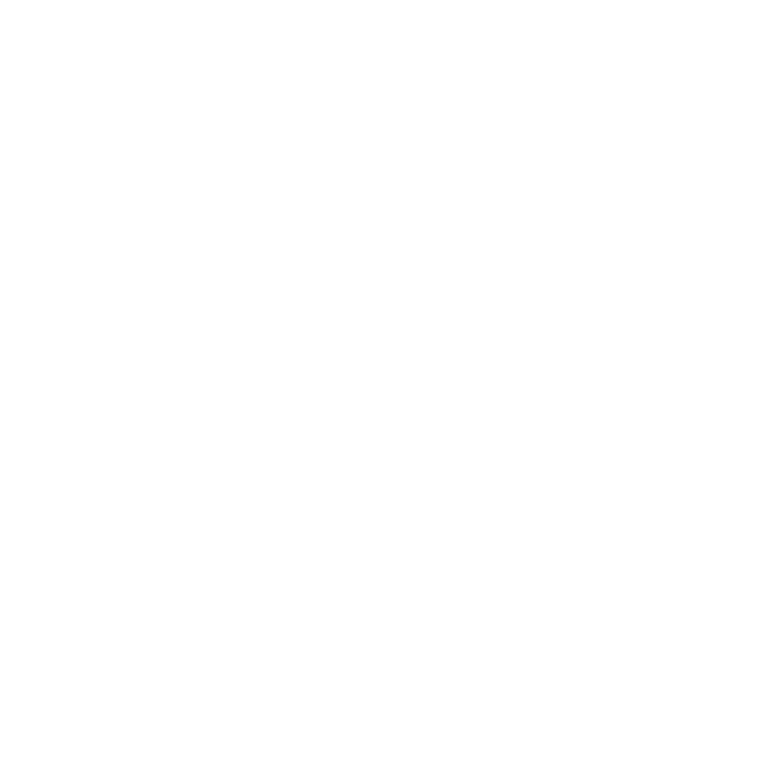
В предыдущие годы фестиваль привозил и «классику итальянского культурного пространства» Мауро Бигонзетти с его постановкой «Mediterranea», и создавал программу «Испанская ночь», которую составляли отдельные номера программы с исполнителями из New York City Ballet, Национального балета Испании, но прежде фестивалю не удавалось так попасть в контекст танцевального мира. Отдельно стоит отметить, что сама по себе тема материнства и отцовства в последнее время довольно часто всплывает среди тем спектаклей современного танца. Недавно показанные в России работы «Мать» компании Peeping Tom и «Мокьюментари на современного спасителя» компании Ultima Vez — хороший тому пример. Однако эти спектакли напрямую соотносятся с тем, что сейчас принято называть современным танцем в Европе, в то время как спектакль Артура Питы все же имеет отношение к неоклассической стилистике. Довольно закономерно, но, безусловно, любопытно наблюдать за изменениями, которые привносят за собой основы классического балета, драматического театра и даже, если угодно, перформанса в такой сказочный спектакль. Артур Пита заинтересовался рисунками итальянского художника, инспирированные «Историей одной матери» Ганса Христиана Андерсена. Мрачная и нравоучительная история датского сказочника претерпела ряд изменений, а время действия перенеслось в пространство советской России 1960-х годов.
О том, что режиссера и хореографа этого спектакля называют «Дэвидом Линчем современного танца», говорит каждый таблоид. Однако от Дэвида Линча здесь осталось только явное применение кинематографических приемов и попытка нагнетения сюжетных перипетий. Тот самый «Монтаж аттракционов» Сергея Эйзенштейна, как нельзя кстати работает здесь: события меняются на раз-два, Джонатан Годдар (партнёр Осиповой) примерно с такой же скоростью меняет костюмы и перевоплощается из врача в русскую женщину (или в «Ночь» по Андерсену), из русской женщины в садовницу (слегка напоминающую кровожадного Фреди Крюгера), а уже из своеобразного Харона, ведущего Мать за собой, в возлюбленного Матери. От такого количества перевоплощений можно даже устать, а глаза — привыкнуть.
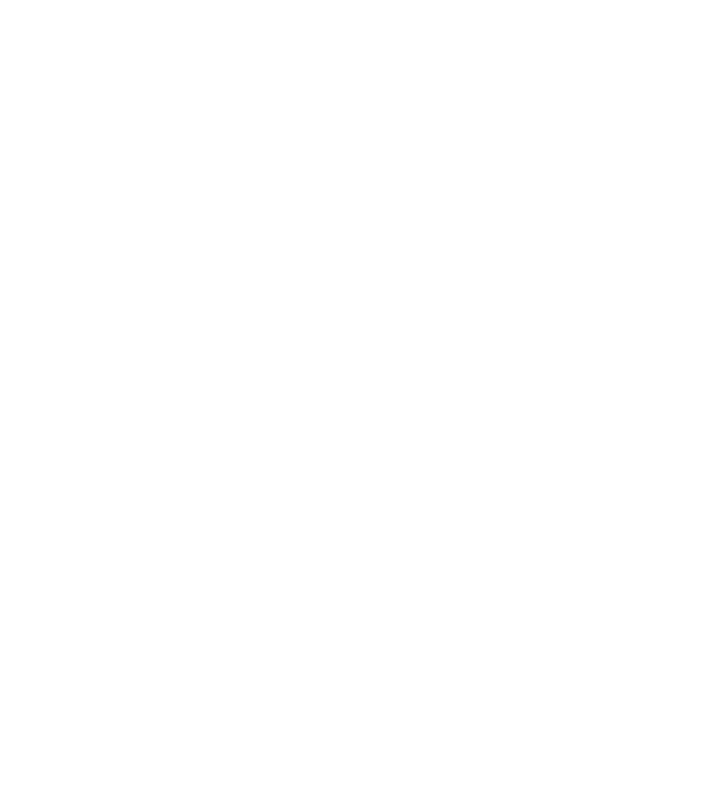
Но тем, что постоянно возвращало зрителя в настоящий момент, было живое музыкальное сопровождение перкуссионистов, которые находились прямо на сцене и всюду следовали за героями.
Среди действующих лиц на площадке в начале появляется и ребёнок, таким образом, режиссёр замыкает цепочку семи персонажей, свойственных сказке по известной концепции В. Я. Проппа «Морфология волшебной сказки». По этой концепции совсем не важно, будет ли герой-антагонист Озером (как у Андерсена) или Хароном, важно, что функции их будут одинаковы. В нашей истории они являются проводниками к Смерти, за которой гонится Мать, чтобы спасти своего ребёнка. Однако надо сказать, что появляющийся саспенс постоянно даёт ощущение присутствия смерти на сцене и в зале, а понимание того, что один исполнитель играет все роли помощников, а в итоге и самой смерти — добавляет ироничной улыбки в ответ на это.
Архетип матери-спасительницы соседствует с концептом плача, который проявляется как в танцевальных партитурах, так и в звуковых. Плач ребёнка, звучащий на весь зал или срыв с крика на плач героини Натальи Осиповой, так или иначе проявлялся на сцене. Ведь это так по-русски — плакать и танцевать, танцевать и плакать.
В своей образности хореографу удаётся соединить библейские мотивы Гефсиманского сада с античной идеей фатума, а русские фолковые пляски с неоклассической стилистикой движений. Когда радость от соединения этих двух техник схлынет, окажется, что сама по себе танцевальная лексика отчего-то довольно скупа и повторяема, а работы в партере очень не достаёт, когда мы говорим о смерти и о садах с землёй. К середине спектакля неожиданный и кровожадный натурализм пытается сплестись с философским поиском (совсем уже избегая законов вышеупомянутого Проппа) и уже не отличить, где иглы, где кровь, вонзаются и заливают все тело Матери, а где — фарс. Когда и вовсе смерть начинает расставлять статуэтки негритят, кажется, что намёк на детективную историю не такой уж и намёк, а издевка, и Агата Кристи где-то рядом всплакнула. Но если в начале в проводниках и самом духе смерти есть что-то юмористическое, то впоследствии сюжет отсылает нас к сочувствующему «существу», хотя и это, конечно, обман: куда там смерти до сочувствия. Разве что к её черному блестящему костюму в одной из сцен, где казалось, что художником мог бы стать Андрей Бартеньев вместо Яна Сеабры.
И все же одним из тех моментов, от которых пробегают мурашки, становится сцена в ванной (в оригинале — Озеро). В этой сцене героиня отдаёт свои глаза, чтобы узнать, где её ребёнок.
Среди действующих лиц на площадке в начале появляется и ребёнок, таким образом, режиссёр замыкает цепочку семи персонажей, свойственных сказке по известной концепции В. Я. Проппа «Морфология волшебной сказки». По этой концепции совсем не важно, будет ли герой-антагонист Озером (как у Андерсена) или Хароном, важно, что функции их будут одинаковы. В нашей истории они являются проводниками к Смерти, за которой гонится Мать, чтобы спасти своего ребёнка. Однако надо сказать, что появляющийся саспенс постоянно даёт ощущение присутствия смерти на сцене и в зале, а понимание того, что один исполнитель играет все роли помощников, а в итоге и самой смерти — добавляет ироничной улыбки в ответ на это.
Архетип матери-спасительницы соседствует с концептом плача, который проявляется как в танцевальных партитурах, так и в звуковых. Плач ребёнка, звучащий на весь зал или срыв с крика на плач героини Натальи Осиповой, так или иначе проявлялся на сцене. Ведь это так по-русски — плакать и танцевать, танцевать и плакать.
В своей образности хореографу удаётся соединить библейские мотивы Гефсиманского сада с античной идеей фатума, а русские фолковые пляски с неоклассической стилистикой движений. Когда радость от соединения этих двух техник схлынет, окажется, что сама по себе танцевальная лексика отчего-то довольно скупа и повторяема, а работы в партере очень не достаёт, когда мы говорим о смерти и о садах с землёй. К середине спектакля неожиданный и кровожадный натурализм пытается сплестись с философским поиском (совсем уже избегая законов вышеупомянутого Проппа) и уже не отличить, где иглы, где кровь, вонзаются и заливают все тело Матери, а где — фарс. Когда и вовсе смерть начинает расставлять статуэтки негритят, кажется, что намёк на детективную историю не такой уж и намёк, а издевка, и Агата Кристи где-то рядом всплакнула. Но если в начале в проводниках и самом духе смерти есть что-то юмористическое, то впоследствии сюжет отсылает нас к сочувствующему «существу», хотя и это, конечно, обман: куда там смерти до сочувствия. Разве что к её черному блестящему костюму в одной из сцен, где казалось, что художником мог бы стать Андрей Бартеньев вместо Яна Сеабры.
И все же одним из тех моментов, от которых пробегают мурашки, становится сцена в ванной (в оригинале — Озеро). В этой сцене героиня отдаёт свои глаза, чтобы узнать, где её ребёнок.
Сочинская публика с достоинством выдерживала саспенс происходящего, хотя даже на двадцатой минуте были желающие покинуть зал. При этом отрываться от Натальи совсем не хотелось, хоть в красной краске она, хоть без глаз, хоть с седыми волосами — совсем не важно. Ноги её прекрасны, а неоклассическое направление — хоть и не заявленный contemporary dance, но даётся легко.
О том, что сегодня представляет собой хореодрама можно рассуждать долго, но ясно одно: движение в сторону честных общечеловеческих тем в этом жанре точно присутствует. Пусть через сказочные сюжеты, саспенс и драматичные взгляды, но, так или иначе, мы движемся к ясности и к тому, что называют современным и актуальным танцем.
О том, что сегодня представляет собой хореодрама можно рассуждать долго, но ясно одно: движение в сторону честных общечеловеческих тем в этом жанре точно присутствует. Пусть через сказочные сюжеты, саспенс и драматичные взгляды, но, так или иначе, мы движемся к ясности и к тому, что называют современным и актуальным танцем.