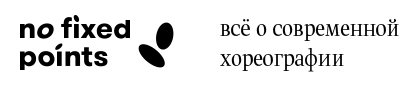Жизель проясненная
Тата Боева о новой «Жизели» в Большом театре.
Фотографии — Наталья Воронова
Фотографии — Наталья Воронова
Большой театр выпустил новую «Жизель» — тихое, но по сути грандиозное событие. Тихое потому, что характер новой постановки и проведенная работа нуждаются в разъяснении. Не видны невооруженным взглядом. До премьеры даже балетоманы высказывались в социальных сетях так, что быстро стало понятно: Большой не донес до сведения публики, что заказал Алексею Ратманскому не создание собственной хореографии, а восстановление исторического вида «Жизели».
Ратманский, несколько лет пробывший худруком Большого балета и покинувший пост, хотя и начинал интересоваться историческими версиями, работая в России («Корсар», сделанный в паре с Юрием Бурлакой), скорее известен оригинальными постановками или пересочинениями, вроде «Светлого ручья». Сколько людей, увидев на афише «хореография Алексея Ратманского по мотивам Ж. Коралли, Ж. Перро и М. Петипа», охнули, плюнули и не купили билет на «отсебятину», узнать не удастся.
Зато количество недовольных игровыми вставками и изменениями рисунка (например, шене на полупальцах) можно установить. В социальных сетях легко можно найти отзывы разочарованных: постановщик испортил золотую классику. Основная претензия — толком ничего не придумал, но, что называется, наследил.
Зато количество недовольных игровыми вставками и изменениями рисунка (например, шене на полупальцах) можно установить. В социальных сетях легко можно найти отзывы разочарованных: постановщик испортил золотую классику. Основная претензия — толком ничего не придумал, но, что называется, наследил.
Многие не поняли (или не было ясно донесено), что Большой приобрел классическую «Жизель». Не советского образца, порезанную, требующую подсматривать в либретто. Близкую к той, которую смотрели в XIX веке.
Зрители (и те, кто ходит по случаю, и многие балетоманы, и профессионалы), привыкнув к редакциям Мариинского и Большого, часто уверены: это и есть балеты наследия. Двадцать лет восстановления версий (как раз в 2019 году юбилей существования «Спящей красавицы» Сергея Вихарева в Мариинском), близких к историческим, возможность увидеть разницу с «оригиналом», не особенно помогли.
За что только не ругают реконструкции.
Доказывают, что не зря были утеряны фрагменты или целые акты, придираются к разнице техник. Говорят «неизвестно, что там в этих ваших нотациях понаписано» (хотя для заинтересованных та же «Жизель» частично оцифрована и лежит в открытом доступе на сайте Гарвардского университета; пойти в Ленинку за ключом к системе записи Степанова и вперед, на покорение архива).
Зрители (и те, кто ходит по случаю, и многие балетоманы, и профессионалы), привыкнув к редакциям Мариинского и Большого, часто уверены: это и есть балеты наследия. Двадцать лет восстановления версий (как раз в 2019 году юбилей существования «Спящей красавицы» Сергея Вихарева в Мариинском), близких к историческим, возможность увидеть разницу с «оригиналом», не особенно помогли.
За что только не ругают реконструкции.
Доказывают, что не зря были утеряны фрагменты или целые акты, придираются к разнице техник. Говорят «неизвестно, что там в этих ваших нотациях понаписано» (хотя для заинтересованных та же «Жизель» частично оцифрована и лежит в открытом доступе на сайте Гарвардского университета; пойти в Ленинку за ключом к системе записи Степанова и вперед, на покорение архива).
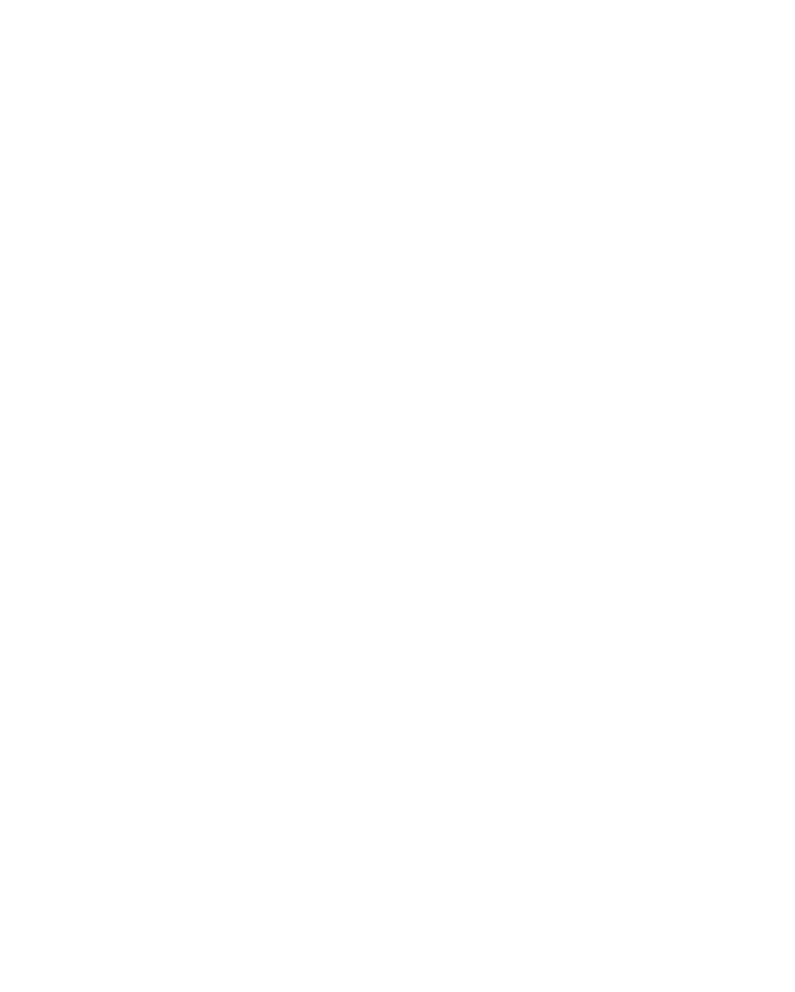
Ольга Смирнова и Артемий Беляков
Придираются к тому, что Жюстаман записывал словами, а значки Сергеева — скорее, схема и ориентир, не учитывающие манеру и традиции исполнения. Упрекают, что спектакль менялся, а нотировали единожды (давайте выкинем все видео, они тоже не передают процесс изменения постановки). Все сводится к одному: при декларации интереса к традициям русского классического балета ревнители не готовы отказаться от привычных с детства спектаклей.
Речь даже не про танцы и их вид — отдельная тема. Большинство балетов потеряло пантомимные сцены. Они (не зря в самодуровской «Пахите» приводится сравнение с титрами в немом кино) «отвечали» за ход сюжета. Помогали скрепить танцевальные куски. О том, что советские редакции почти невозможно понять, не держа перед глазами либретто, говорят редко. Мы же все помним содержание «Жизели», правда? Что его проговаривать (точнее, жестикулировать) во время действия?
Речь даже не про танцы и их вид — отдельная тема. Большинство балетов потеряло пантомимные сцены. Они (не зря в самодуровской «Пахите» приводится сравнение с титрами в немом кино) «отвечали» за ход сюжета. Помогали скрепить танцевальные куски. О том, что советские редакции почти невозможно понять, не держа перед глазами либретто, говорят редко. Мы же все помним содержание «Жизели», правда? Что его проговаривать (точнее, жестикулировать) во время действия?
Все сводится к одному: при декларации интереса к традициям русского классического балета ревнители не готовы отказаться от привычных с детства спектаклей.
Смысл есть. Невозможно в одном тексте собрать все, чем театральная практика XIX века отличалась от сегодняшней. Театр как быстрое зрелище, десятки премьер за сезон, относительно недолгая продолжительность жизни спектакля (потому что старая новость не новость и смотреть одно и то же скучно), мелодрама как основной и самый востребованный жанр, заменяемость частей представления — лишь немногое.
Если суммировать, театр в «золотом» XIX веке был примерно нынешними сериалами. Динамичность, внятный сюжет, приключения и/или страсти. И ноль сентиментальности в духе «это же великое произведение, не тронь».
В этом смысле «выпадение» пантомимы — довольно неприятно. Мы должны понимать, что происходит, узнавать это от персонажей. В детализации истории (по схеме плюс-минус одной и той же) — часть кайфа. Как в боевике. Драке на такой-то минуте быть, вопрос, как к ней вывернут и как сделают.
После «Жизели» Ратманского (а мы идем обратно к ней) я честно попыталась пересмотреть привычные версии. Включила ABT 1969 года с Фраччи и Бруном, мариинскую, еще пару. И поняла, что даже любимые варианты выглядят теперь как любительские репродукции очень тонкой, миниатюрной, сложнейшей работы.
Если суммировать, театр в «золотом» XIX веке был примерно нынешними сериалами. Динамичность, внятный сюжет, приключения и/или страсти. И ноль сентиментальности в духе «это же великое произведение, не тронь».
В этом смысле «выпадение» пантомимы — довольно неприятно. Мы должны понимать, что происходит, узнавать это от персонажей. В детализации истории (по схеме плюс-минус одной и той же) — часть кайфа. Как в боевике. Драке на такой-то минуте быть, вопрос, как к ней вывернут и как сделают.
После «Жизели» Ратманского (а мы идем обратно к ней) я честно попыталась пересмотреть привычные версии. Включила ABT 1969 года с Фраччи и Бруном, мариинскую, еще пару. И поняла, что даже любимые варианты выглядят теперь как любительские репродукции очень тонкой, миниатюрной, сложнейшей работы.
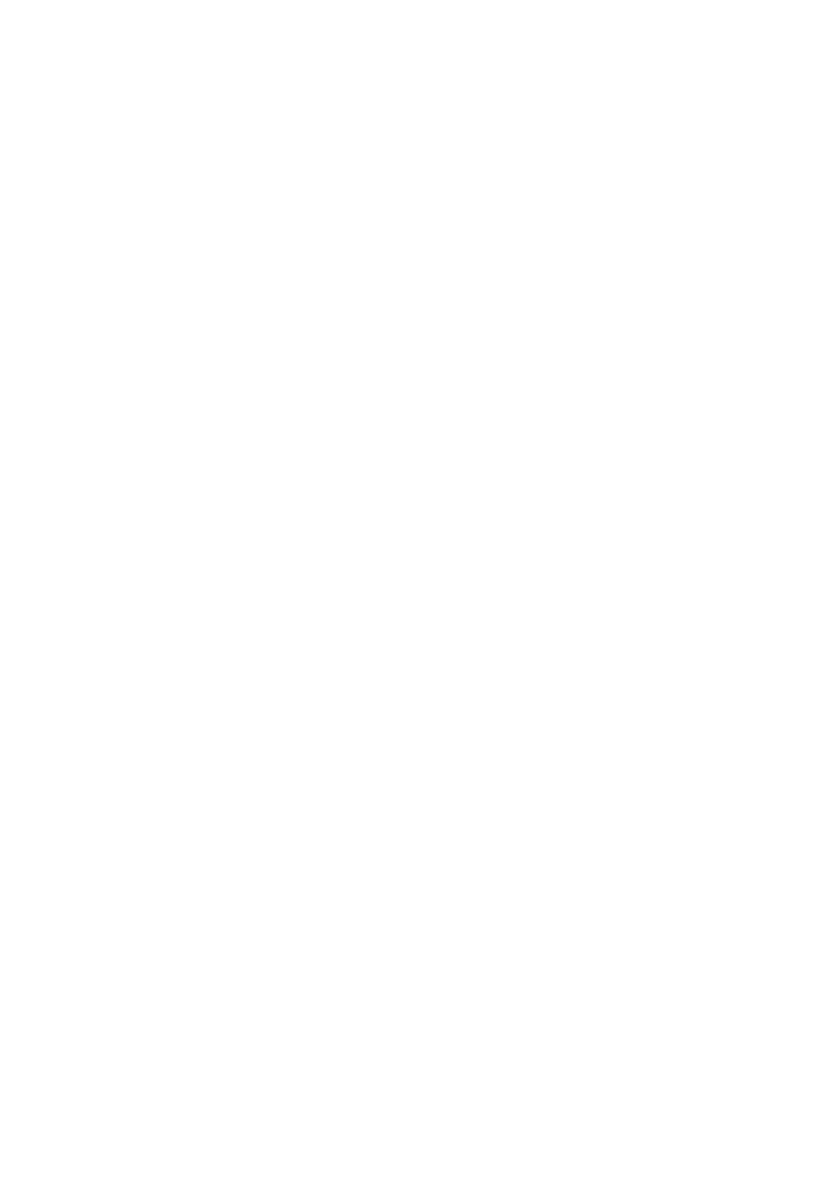
Ольга Смирнова и Артемий Беляков
Ратманский не просто вернул структуру спектакля, выпавшие куски. Его «Жизель» — поразительно человечная. Нелюбимая многими «нелепая болтовня руками» оказалась (то есть для меня лично это было не открытием, а проверкой — потому что текст «реплик» знаком, оставалось только собрать воедино и удостовериться, как работает) полной мелких деталей. Они вроде бы мало меняют в сюжете самого балета. Ну, казалось бы, какая разница, как именно Ганс нашел шпагу, или сколькими жестами обменялись Жизель и Батильда, если история идет тем же чередом.
Но эти мелочи производят ошеломляющий эффект. Схема «Жизель +/- Альберт Батильда и Ганс в уме» стала живой. Одно то, что Батильда и Жизель в этой версии почти равные, пусть недолго, но трепятся о своем, о девичьем (быстро покончив с сословной разницей, они рассказывают друг другу о помолвках, о достоинствах любимых — и это умножает драматичность момента, когда они узнают, что жених у них общий). Теперь разные Гансы могут изобретать, как сильно им не нравится Альберт — и показывать на «его» хижину по-разному. А вычисленное положение Альберта, жест «благородный», больно царапает рифмой, когда Батильда описывает избранника. Жизели могут «говорить», что устали собирать виноград честно (как Екатерина Крысанова) или игриво, с притворством (как Ольга Смирнова). Матери могут быть наседками или, как ожидаемо удивительная Людмила Семеняка, вырастить из небольшой игровой партии образ, полный величественной, пророческой скорби. А рассказ матери о вилисах — самый, наверное, знаменитый выпавший пантомимный фрагмент — соединяет два акта, ненадолго впускает инфернальные силы из второго в теплый, живой, реальный первый акт.
Но эти мелочи производят ошеломляющий эффект. Схема «Жизель +/- Альберт Батильда и Ганс в уме» стала живой. Одно то, что Батильда и Жизель в этой версии почти равные, пусть недолго, но трепятся о своем, о девичьем (быстро покончив с сословной разницей, они рассказывают друг другу о помолвках, о достоинствах любимых — и это умножает драматичность момента, когда они узнают, что жених у них общий). Теперь разные Гансы могут изобретать, как сильно им не нравится Альберт — и показывать на «его» хижину по-разному. А вычисленное положение Альберта, жест «благородный», больно царапает рифмой, когда Батильда описывает избранника. Жизели могут «говорить», что устали собирать виноград честно (как Екатерина Крысанова) или игриво, с притворством (как Ольга Смирнова). Матери могут быть наседками или, как ожидаемо удивительная Людмила Семеняка, вырастить из небольшой игровой партии образ, полный величественной, пророческой скорби. А рассказ матери о вилисах — самый, наверное, знаменитый выпавший пантомимный фрагмент — соединяет два акта, ненадолго впускает инфернальные силы из второго в теплый, живой, реальный первый акт.
Полностью оценить то, что дает спектаклю возвращение пантомимы, можно, смотря сцену безумия Жизели. Обычно она трогательна, но не более; как повезет с версией.
Есть даже такие, как запись 1979 года с Нуреевым, где гибель девушки оказывается фоном для страданий Альберта (бывший советский танцовщик пантомиму не понимал, считал лишней и из спектаклей английского Королевского балета, где начал на Западе танцевать Альберта, сохранившиеся из гарвардских записей Сергеева игровые куски вытравливал). В версии Ратманского это настоящий триллер. Каждую секунду что-то происходит. Жизель продолжает бегать по кругу и периодически что-то «вспоминать», то уплывая сознанием, то на секунды возвращаясь.
Но ее поведение, мелкие подробности, и постоянная реакция матери, Альберта, кордебалета сгущают и без того насыщенный эпизод настолько, что последние секунды от падения Жизели до занавеса почти невозможно продержаться.
Есть даже такие, как запись 1979 года с Нуреевым, где гибель девушки оказывается фоном для страданий Альберта (бывший советский танцовщик пантомиму не понимал, считал лишней и из спектаклей английского Королевского балета, где начал на Западе танцевать Альберта, сохранившиеся из гарвардских записей Сергеева игровые куски вытравливал). В версии Ратманского это настоящий триллер. Каждую секунду что-то происходит. Жизель продолжает бегать по кругу и периодически что-то «вспоминать», то уплывая сознанием, то на секунды возвращаясь.
Но ее поведение, мелкие подробности, и постоянная реакция матери, Альберта, кордебалета сгущают и без того насыщенный эпизод настолько, что последние секунды от падения Жизели до занавеса почти невозможно продержаться.
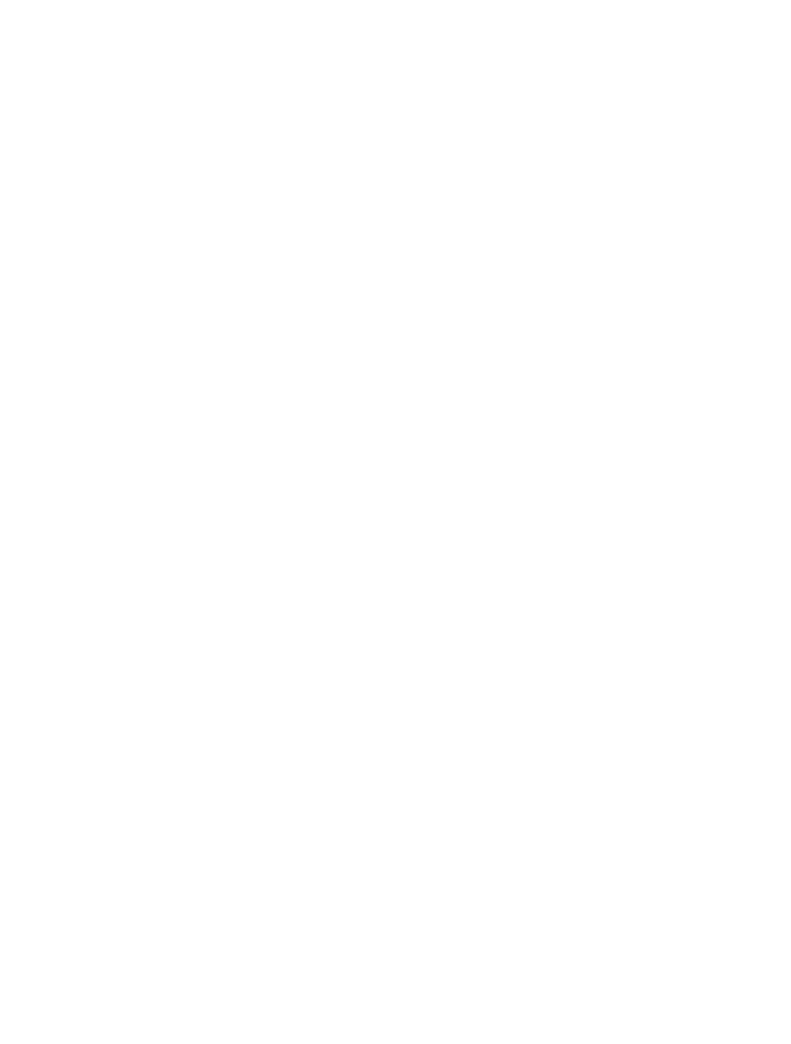
Артемий Беляков
Пантомима — лишь часть того, что вернулось в новой старой «Жизели»; столько же можно сказать и про ставшую более геометричной структуру ансамблей, обострени чувства их формы, о том, что частичное «схождение» с пуантов делает их применение более осознанным, напоминает, что танец на пальцах может быть полноценным инструментом, а не общим местом, что он возникает как акцент. Но возвращение игровых фрагментов лучше всего отвечает на вопрос, зачем нам эти пыльные архивные записи, что дает их применение. Это не только и не столько условная «верность букве», но возвращение к спектаклю, в котором важны и танцы, и проработанная, сложно устроенная человеческая история.
 | 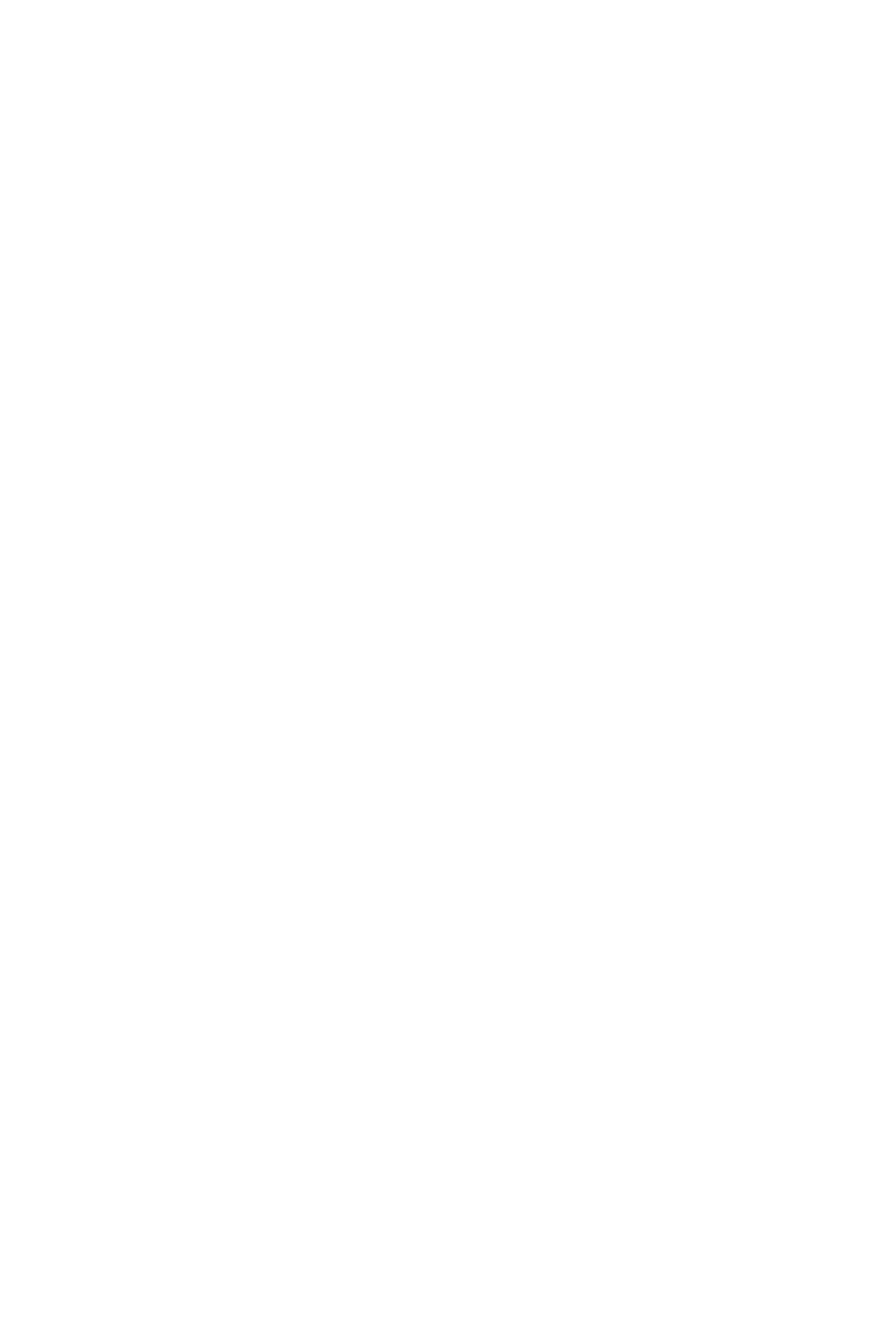 |
Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку
Только лучшие материалы месяца